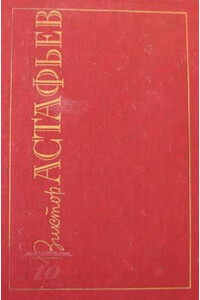Без четвертой стены | страница 4
Красновидов подошел к окну и обмер. Через улицу, за старинным трехэтажным домом, небо окрасилось огромным заревом пожара.
«Театр!» Страшная догадка на миг оглушила его. В растерянности он машинально на халат набросил шубу, вбежал в кабинет, зачем-то схватил со стола роль и сунул в карман. Сирены выли, звали спящих граждан на помощь.
Проходной двор был забит пожарными. Красновидов побежал по улице, свернул в переулок, миновал бензоколонку, выскочил на площадь, протиснулся сквозь толпу зевак и остановился…
В окаянстве огня, в разнузданности стихии была жестокая, кощунственная несправедливость. Пошлость какая-то, скверность. Горел храм! Святотатственно истреблялось что-то высшее. Это не укладывалось в сознании, не находило объяснения. А зеваки смотрели, нет — любовались. И он стоял среди них беспомощным посторонним свидетелем, совсем забыв, что это его, его родной театр, без которого нет бытия. На его глазах, по бесчеловечному закону, беспощадно сгорала вся его жизнь. Какой-то мужик в синем дырявом ватнике воззрился полусонными глазами на Красновидова и вдруг участливо спросил:
— Ты чего? Спрыгнул, парень?
Что было с «парнем»? Что это? Сдвиг, граничащий с умопомрачением? Восприятие стало неуправляемым, потусторонним. Иссякла боль в пояснице. Как тогда на фронте. Пулей ранило в спину, а боли не было. В широко раскрытых глазах ужас и жалость, отчаяние и ярость, кротость и протест. В остановившихся зрачках то мелькали отблеск огня, крупа искр, то вдруг чернильная темнота заставляла зажмуриваться, у него начиналось головокружение, и он безвольно искал руками, за что бы ухватиться и не упасть. «Кто разрешил творить над театром богохульство, того я низвергну, низвергну… Боже! Боже!»
— …презира-аю!! — во всеуслышание вырвалось у него из груди с хрипом и бульканьем. На него обратили внимание, кто-то пытался заговорить с ним, дотронулся до плеча, но он никого не видел, не слышал слов, не чувствовал прикосновения, глаза его вперились в разнузданную свистопляску огня, нещадно пожиравшего вместе с театром и его, Красновидова. Замирая от страха, оглохнув от пронзительного свиста и грохота, он мысленно несся туда, во чрево театра. Невесомый, в необжигающем пламени опустился на пологую, раскаленную добела крышу, проник в чердачное окно, прозвенел каблуками по железным ступенькам до верхних мужских гримировочных, вошел в распахнутые двери фойе, потом бежал по узкому коридору и в глубине его увидел окованную жестью дверку, над которой висело световое табло: «ТИШЕ! СЦЕНА!!» Трепетной рукой дотронулся до дверки, она подалась, приоткрылась — и оттуда навстречу ему, свистя и треща, метнулось пламя. Оно ярко, ослепительно ярко, как на королевском балу, сияло, облизывая декорации, кулисы, занавес. Занавес шевелился и зябко трепетал, его строгий шелест горьким укором отозвался в сердце Красновидова, словно он был виновником пожара. Скорбным взглядом смотрел он на занавес, а губы, как старому другу, шептали пришедшие на память строки из «Фауста»: