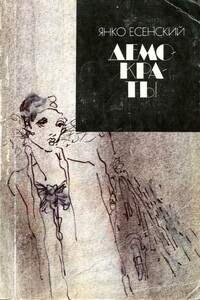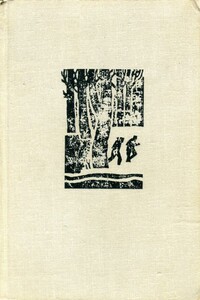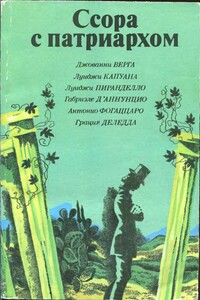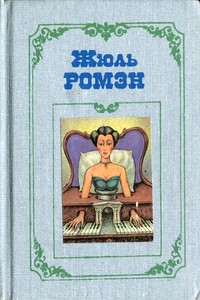Я, Данила | страница 64
На большом пляже, среди множества голых тел, я бы, наверное, и не заметил ее. Но при лабудовацкой бедности сенсациями эта двуногая песня превращала меня в молодого четвероногого, что бессильно рычит и облизывается в своей засаде.
Только теперь до меня дошло, что́ я упустил, когда ехал с ней на грузовике из Сараева. От воспоминаний об этом полусобытии, к которому мы, не сговариваясь, по взаимному согласию не возвращались, оставались жалкие обрывки, да и те норовили сигануть со склада памяти. До сих пор моим глазам и воображению беспрепятственно предоставлялся один ее профиль. Сейчас вся ее фигура от пальцев ног до подбородка, эта незримая, дразнящая скала, стояла передо мной живым воплощением моих несбывшихся желаний. Старость — наказание уже хотя бы потому, что понимаешь безвозвратно потерянное.
Вдохновленная, видимо, искусством купальщика, она вдруг раскинула руки и нырнула головой вниз прямо к нему.
Когда они вышли из воды, я узнал и его. Учитель! Один из немногих, кто сдал государственные экзамены и на этом основании пользовался безграничным доверием. Женщины считали его писаным красавцем, вероятно, потому, что голову он причесывал гораздо чаще, чем мыл ноги. Он был из числа тех, кто покоряет только в костюме. Лопатки у него торчали, как бока у старого одра, а руки и ноги были ровно плети. Может быть, девушка не замечала этих недостатков. Может быть, я из чистой ревности приписывал ему изъяны, которые любовь превратила бы в достоинства атлета.
Девушка легла на спину. Он сел у нее в изголовье.
— Почему вчера не пришла? — спросил учитель.
— Работа…
— Этот дьявол совсем тебя заездил…
— Нет, лучшего начальника, чем товарищ Данила, у меня еще не было.
— Это же дикарь, который ничего не видит в жизни, кроме камня, кирпича и денег! — съехидничал учитель, словно я камнем, кирпичом и деньгами убил его отца. Гм, любопытно, что он еще скажет. — Я вижу, — продолжал учитель, — как ты раболепствуешь перед ним. И не ты одна. Навязал свою волю селу. Люди боятся ему слово сказать. Работают и молчат, а он их молчание принимает за согласие, не видит, что это молчаливый отпор. Люди боятся его и не любят. Слабые льстят ему, сильные ненавидят. Своей дурацкой личной жизнью он лишил их орудия мести. Молчат даже тогда, когда он, прикрываясь благими целями, делает глупости. Он иезуит, супостат, насильник, невежда, старый хрыч, полный ненависти. Я говорил в уезде, но там пока еще увлечены одной только материальной стороной строительства. Боюсь, как бы лабудовчанам не встал поперек горла социализм этого мрачного чистюли Данилы. Он ведет себя так, словно в одном кармане у него Маркс, а в другом — Энгельс. А того не видит…