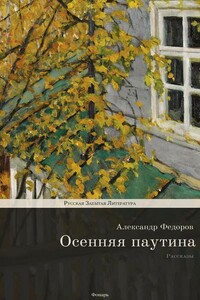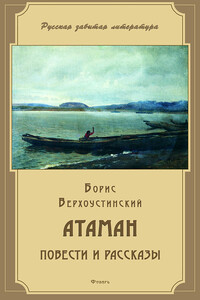Опустошенные сады (сборник) | страница 7
Фон-Книппен опять звякает шпорами.
— Успокойтесь! Если вас лечили не палкою, то выздоровление не полное.
— Дельно отмочено! — гудит Долбня.
Рогнеда строго взглядывает на Алексея, он ежится и замолкает.
— Прошу, господа! — зовет Пелагея Евтихиевна к столу.
4
За чаем разговор возобновляется.
— Вообще, мне кажется, что личность и мысль слабо связаны между собою. Разве вам никогда не приходилось бежать, закрывать лицо ладонями, скрываться от собственной мысли? Или тихо-тихо подкрадываться к ней, как к таинственной Жар-Птице, чтобы схватить ее за хвост и похитить хоть одно лучезарное перо?
Ковалев сидит против Рогнеды и обращается, главным образом, к ней; его лучистые глаза сияют кротко и радостно, и ей за него обидно зачем, зачем он говорит все это при фон-Книппене, Долбне и Тихом Ужасе, когда они выйдут от него, они будут над ним же смеяться — обдекадентился… тю-тю!
— Вы мне покажете потом, Георгий Глебович, ваши новые этюды?
Ковалев тускнеет, в углах рта образуются складки.
— Хорошо, с удовольствием… Только — все дрянь, все дрянь.
Ваза с вишневым вареньем быстро опустошается, ломоть за ломтем съедается и сладкий каравай, — у Долбни неукротимый аппетит. Фон-Книппен выпивает только один стакан и затем откидывается на спинку стула, незаметно для других строя глазки Рогнеде. Она сдерживает свой гнев: глупо вступать с этим хлыщом в объяснения!
Розовая Серафима тщетно пытается завязать с кем-нибудь разговор. На нее все давно привыкли смотреть, как на хорошенького болванчика, милого, доброго, но всегда одинаково мотающего головой. Один Долбня считает своим долгом отпустить ей несколько изысканных комплиментов:
— Ваше варенье, что картечь, пробивает броню моей алчбы.
— А не пересахарено?
— Нет, а буде и так, то только к лучшему.
Пелагея Евтихиевна, сидя за самоваром, расспрашивает Тихий Ужас о родах дочери податного инспектора. Какой скандал: благовоспитанная девица и этакий срам…
Тихий Ужас подробно описывает, как и что было. Роды — из трудных, одно время больная совсем была при смерти. Кстати Тихий Ужас вспоминает удивительную операцию, произведенную за границей в ее присутствии одним знаменитым профессором. Потом она рассказывает о другой удивительной операции и о другом знаменитом профессоре, и наконец, — о Женевском озере и Невшательских часовщиках.
— А ведь ребеночек-то от фон-Книппена, — шепчет ей на ухо Пелагея Евтихиевна.
— Да ну! — настораживается Тихий Ужас. — Вот подлец!
После чая все переходят в кабинет Ковалева. Комната просторная, со стен свешиваются полки с книгами и этюды. Письменный стол в страшном беспорядке, чего-чего тут только нет: рукописи, открытые книги, старые газеты, увядшие цветы в фарфоровых кувшинах, старое проржавевшее ядро вместо пресс-папье, пепельницы, кошельки, ящики с красками, грязные манжеты, разрозненные запонки, гипсовая копия Роденовского Пастера и на ней желтые лайковые перчатки. Около стола старинное резное кресло, крытое тисненным сафьяном, с высокою прямою спинкой. В одном углу стоит пустой мольберт. Мебели немного — диван и низенькие кресла, обитые малиновым бархатом.