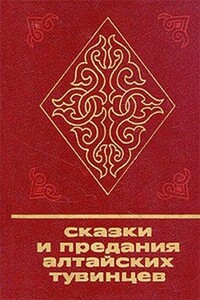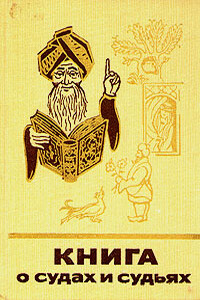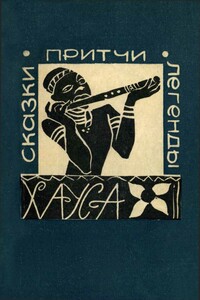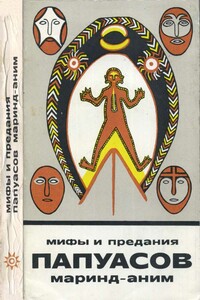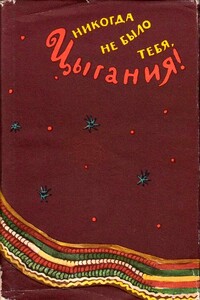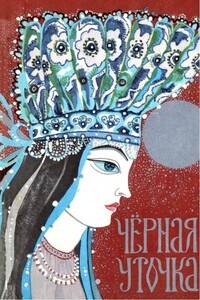Сказки и мифы народов Филиппин | страница 5
За примерами ходить недалеко: если в представляющем маигианскую мифологию близнечном мифе "Мальвай и Далидали" изначально низкое небо поднялось вверх благодаря чересчур размашистым движениям рушившего рис "неудачника" Далидали, то аналогичное представление об изначально низком и создававшем массу неудобств небе и благодетельном ударе песта, приписываемом нередко женщине-прародительнице, мы встречаем в нескольких версиях у багобо, живущих на Южном Минданаэ ("Времена Моны") [см. также 33, 48, 53, 99 — 101], а также у манобо (Северный Минданао) и на севере Лусона [см. 28, 89][5].
Широким распространением (по крайней мере в пределах Северного Лусона) пользуется, например характерный и для ряда других народов Юго-Восточной Азии [см. 54, 118, 124; 18] миф о потопе и следующем за ним "втором рождении" человечества, заключающем в себе идею "мертвой воды", по словам Эльяде, — лейтмотива палеоазиатских, азиатских и океанийских мифологий, воды, растворяющей, уничтожающей всякие формы, но в то же время обильной зародышами вещей и в потенции своей — животворящей [см. 36, § 60; 37, 146]. Одну из версий этого мифа представляет собой "Миф о потопе", принадлежащий ифугао (с равным правом можно было бы назвать его, делая акцент на заключительной его части, мифом о происхождении смерти как ритуального убийства, обеспечивающего продолжение жизни на земле [см. 37, 122][6]. Точно так же, как у ифугао, на двух горах спасаются от потопа мужчина и женщина, давшие начало племенам калинга [33, 219] и боло [см. 26, 186 — 187], причем у первых мужчина догадывается о пребывании женщины на другой горе по отблеску солнца на ее коробочке для бетеля и пускается к ней вплавь в вазе (имеется в виду большая китайская фарфоровая ваза — эталон богатства у ряда племен Филиппин и Индонезии), а у вторых — мужчина плывет к женщине на тыкве. В вышеуказанных источниках не упоминается, правда, о кровном родстве уцелевших от потопа первопредков калинга и боло, зато у набалои и бонтоков это, точно так же как и в "Мифе о потопе", брат и сестра, но нашедшие приют на одной и той же горе [см. 58, № 2] (ср. также 69, где сестра находит приют на вершине горы, а брат — в пещере на склоне, и 65, 487 — 506[7]; впрочем, в другой версии мифа о потопе ифугао их первопредки спасаются также на одной горе [см. 44, № 4 с][8].
Впечатление, что мы имеем дело с локальными вариантами одного и того же мифа, усиливается, стоит лишь обратиться хотя бы к фигуре демиурга и подателя благ первонасельникам земли. Действительно, набалойский Кабуниан, созидающий горы ("Откуда появились горы"), убеждающий пожениться первопредков набалои [58, № 2] и добывающий для них рис из подземного мира [58, № 17], почти не отличается от чуть более близкого к массам бонтокского Лумавига (без малого тезки полинезийского Мауи [см. 46, 65]), приходящего на помощь замерзшим на своей горе первопредкам, советующего им затем вступить в кровосмесительный брак и обучающего их разным ремеслам [65, № 1], а по версии боло — собственноручно вызывающего потоп, дабы создать горы на земле [26, 186 — 187].