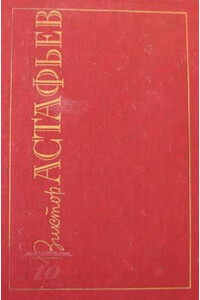Лето 1925 года | страница 30
Что значит, однако, этот возглас — „приехали“?.. Ведь я не называл адреса. Темный подъезд ничем не отличался от соседних, дыша тайной снов и бессонниц, тайной четырех чужих стен. Куда же завез меня болтливый шоффер? Может быть, на монархическое собрание, где — мечта директора паноптикума — восковые лысины наливаются вишневым соком, те или иные валики изрыгают „ура“, стынет чай с лимоном, бессменно царит император, а старая „тант“, упуская петлю, во сне видит гусарский рай?
Впрочем, как следует задуматься я не успел. Господин Сергеев деликатно, однако, настойчиво втолкнул меня в подъезд. Мы прошли во внутренний дворик, где воспаленно, как им и полагается, моргали окошки флигеля, не паноптикума, не гусарского рая, не дома для умалишенных, нет, банальнейшего заведения m-me Софи, а может быть и m-me Мари, во всяком случае элегантной особы лет пятидесяти, твердо знающей, что такое чистая любовь и высокая валюта.
Чинно улыбаясь, сидели девушки у стен. Им было запрещено заговаривать с посетителями. Не будь они догола раздетыми, я бы подумал, что это неурочный экзамен в колледже. Чувствуя некорректность одежды, некоторые гости расстегивали жилетки и щеголяли то изумрудными, то фиолетовыми подтяжками. Подметив мою растерянность, m-me Софи (или m-me Мари) сердобольно сказала:
— Наша такса семьдесять пять и шампанское не обязательно.
Я стал пробиваться к выходу. Не бедность гнала меня из этого уютного флигеля, иные, чисто лирические позывы: после встречи с Паули я хотел темноты, звезд, может быть, звуков пошленького фокс-трота, вместе с медяками выпадающих из ночных баров на водянистый асфальт проспектов, словом любой, хоть третьесортной романтики. Господин Сергеев, видимо, думал иначе. Он во что бы то ни стало хотел удержать меня. Пошушукавшись с элегантной особой, он стал быстреньким шопотом отвратительно щекотать мое ухо.
— Для нашего брата, для русака — та, видите, толстенькая, вроде мопса. Душу щемит, как степь. Валяйте!..
Увидав, что и эта поэтическая справка не помогла, он вывел меня в соседнюю комнату. Я увидал нечто омерзительное и трогательное. Среди зелени и полевых цветов, под глухим светом будуарного фонарика, стояла коза, обыкновенная коза, та, которой надлежит оживлять пейзажи Клода Лорена и давать детям сладкое молоко.
Я ничего не понял. Очевидно, столь же мало понимала и коза, ибо ее отрывистое, жалостливое блеяние неизменно заканчивалось вопросительным знаком.