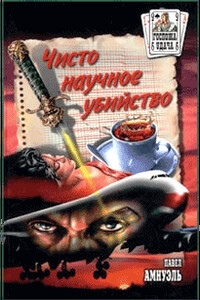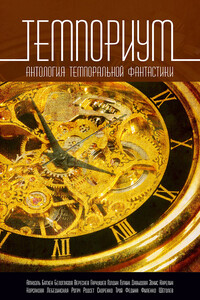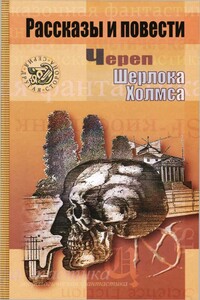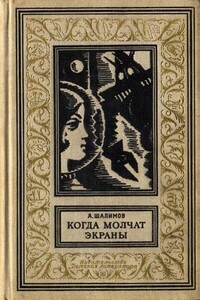Приговорённые к высшей мере | страница 19
— Стоп, — сказал я. Записывать эту галиматью я не успевал и все же почему-то старательно царапал бумагу и злился, когда соскальзывала с пера чернильная капля, пришлепывая букву. Что-то происходило со мной сегодня — видимо, из-за жирной курицы на обед…
Мильштейн перестал нести околесицу, уставился на меня своим совиным взглядом, и впервые я увидел в нем не зека, уже готового дать признательные показания, а жалкого старика, которому на самом деле нет и пятидесяти, но который уже прожил жизнь и точно знает, что на волю ему не выйти, и ужасно боится физических методов следствия, но все равно тупо будет стоять на своем, хотя и знает, что никакие сионисты с воли ему не помогут.
Какие сионисты с воли? О чем я? Какая жирная курица на обед? Господи, этот человек — физик, и он знает, что Мир многомерен, он точно знает это, и я должен с ним говорить. Кто он? Мильштейн. Не знаю такого физика. Где он работал? И если он знает о многомерии, почему не пользуется? Неужели он до всего дошел сугубо теоретически и сам не обладает никакими способностями к экстрасенсорным ощущениям?
Физик неожиданно начал медленно клониться набок, глаза его закатились, и он повалился на пол как мешок, небрежно оставленный на табуретке нерадивым хозяином. Я выбежал из-за стола, поднял безвольное тело и ощутил два противоположных желания. Дать ему в дыхалку, чтобы пришел в себя. И — положить на мягкое и дать поспать, и сидеть рядом, ожидая, когда он придет в себя, а потом просить у него прощения.
За что прощения? Этот физик попал в машину, его перемелет, как перемололо до него всех, кто не вписался в габарит. И Бог с ним. Растолкать гада. Но рука не поднималась, я стоял, поддерживая Мильштейпа под мышки, он висел па мне, его редкие волосы лезли мне в нос, до чего противно, только бы не сдох прямо сейчас, не должен, надо вызвать охрану, руки заняты, к черту, пусть лежит на полу, я его еще и сапогом в пах… Нет, не получается. Почему? Что со мной?
Мне стало страшно. Измерение совести — оно, может быть, действительно есть? Чушь, бред. Я вернулся к столу, опустился на стул, закрыл глаза руками и в темноте увидел не себя, а кого-то, кого я не знал, и этот некто смотрел мне в глаза, ничего не говоря, и мне становилось жутко, потому что я видел, что обречен. И что палач мой — этот физик, который не протянет на лагерной баланде и года, по почему-то останется жить, и будет смотреть мне в глаза всегда, и всегда будет спрашивать: кто я и кто ты? Почему тебя не интересует то, что я действительно знаю, а лишь то, что, как тебе кажется, я знаю или могу знать?