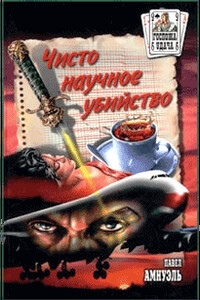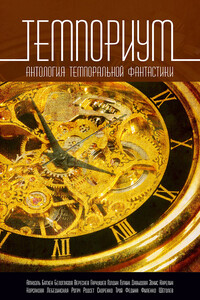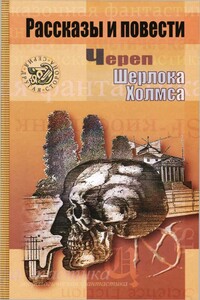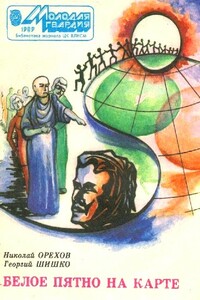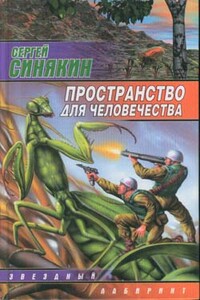Приговорённые к высшей мере | страница 15
Как гулко тикают секунды. Ныряю.
Поединок
Шнур, все более раскаляясь, пронизывал серую топь, в которой нечем было дышать и незачем — думать. Я думал, что повторю прежний путь, но почему-то вынырнул почти сразу, и увиденное было таким неожиданным, что я на мгновение решил, что меня вытолкнуло назад, и ничего больше не получится.
Был я — и не я. Я удобно сидел на стуле, откинувшись на высокую спинку. Комната была маленькая, грязно побеленная, в зарешеченное окно слева сквозь пыльное стекло тускло светила рыжеватая вечерняя луна, передо мной на письменном столе, старом, но прочном, лежала тоненькая папочка с бумагами. У противоположной от окна стены стояч массивный, уверенный в себе, сейф. На табурете, не у стола, а поодаль, на полпути к закрытой двери, сидел, согнувшись, человек в жеванном костюме, имевшем когда-то светлокоричневый цвет, а сейчас более похожем на тряпку, о которую долго вытирали ноги. Руки мужчины лежали на коленях, лицо — узкое, с нелепыми кустистыми бровями — выглядело бы смешным, если бы не трагический взгляд огромных глаз. Глаза мужчины закрывались, и я, не меняя позы, сказал коротко и жестко:
— Не спать!
Я вовсе не повышал голоса, но мужчина вздрогнул, мгновенно выпрямился. Чтобы он окончательно проснулся — работать нам предстояло долго, всю ночь, — я включил настольную лампу (в патрон сегодня ввернули новую, более мощную, завхоз сделал это лично для меня, хорошая лампа, свечей триста) и направил свет в лицо мужчине. Он быстро заморгал, но взгляда не отвел, рефлексы работали слава Богу, не первую ночь мы вот так сидели друг перед другом, беседовали. Я многое знал о нем, он обо мне — гораздо меньше, хотя иногда мне казалось, что он читает мысли, провидит будущее и знает прошлое, и от этого ощущения мне хотелось коротко взвыть и хрястнуть его по нелепому черепу чем-нибудь тяжелым, чтобы мозги прыснули, и тогда я, возможно, узнал бы, о чем он думает.
Я придвинул к себе бланк, обмакнул в чернильницу перо, испачкал кончики пальцев (завхоз, подлюга, опять долил до краев), написал привычно, как уже третью неделю писал почти каждый вечер: «Мильштейн Яков Соломонович, 48 лет, беспартийный, еврей».
— Рассказывайте!
Мильштейн поднял на меня удивленный взгляд (он ждал других слов? Так начинался наш разговор всегда, ничего сегодня не изменилось).
— О чем? — вопрос тоже давно стал традиционным, как и мой ответ:
— О вашей антисоветской деятельности в пользу международного сионизма.