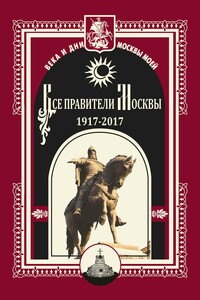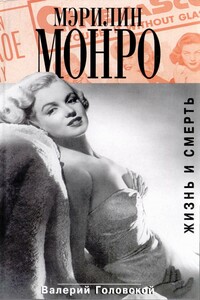Висконти: обнаженная жизнь | страница 111
Однако сама эта Богиня судьбы носит только белое. Эта женщина, которой уже исполнилось полвека, с ее хрупким телом, по-девичьи юным лицом, «над которым красуется большой бант, словно у маленькой девчушки», с живым умом и стремительными движениями, с «темными, отливающими золотом глазами, стражами врат ее сердца — по ним видно, какая это женщина», по-прежнему остается символом жажды жизни, жизни, наполненной страстью. Она говорит о русских: «С ними никогда ничего не знаешь наперед. Они любят либо лютый мороз, либо небывалую жару. При температуре в двадцать градусов они не живут», и говорит, словно о себе. Ее же слова: «Я или люблю, или не люблю».
А Лукино Висконти она любит — за крайности и благородство порывов, за резкую, подчас грубую откровенность, за вкус к абсолютному и за непримиримость. Всеми этими чертами он похож на нее. «Невозможно быть околдованной сильнее, — замечает Хорст, — чем Шанель была околдована Лукино. Он колебался. Она была без ума от него и опьяняла его звуками своего голоса».
Приезжая в Париж, он бежит повидаться с ней, сначала — в роскошную квартиру в предместье Сент-Оноре, потом на улицу Камбон. Он поднимается по широкой лестнице, мимо висящих на стене зеркал, и попадает в ее феерическое королевство: здесь всюду бархат и палевые с золотом шелка, Коромандельские ширмы, книжные шкафы с сочинениям моралистов XVII века и рукописями ее любовника, поэта Пьера Реверди; фигурки эпохи венецианского Возрождения, изображающие негров, и целый фантастический бестиарий: бронзовые лани, хрустальные лягушки, утки и обезьяны из черного дерева и слоновой кости. У огня, между маленьким полотном Дали — золотой колос на черном фоне — и античной головой Гипноса, она говорит часами «своим надтреснутым голосом», о котором Клод Делэ замечал, что «с наступлением вечера он становится все более хриплым… она говорит без передышки, чтобы не слышать безмолвия»… Она рассказывает ему о бегах, о своей племенной кобыле, о запахе ипподрома, о том, как «сильные ноги лошади стремительно отталкиваются от земли и вылетают из стартовых ворот, напрягая сухожилия, и о финале, когда жокеи приходят к финишу, и один побеждает, опередив остальных на полголовы, и все привстают в стременах». Ее голос «рокотал, — как писал Поль Моран, — потрескивал, как сухая лоза», обличая тех, кого она с присвистом на букве «с» называла особами «высшего обсщества», «божественного воняющего сословия… Больше всего они веселятся на вечеринках, где заживо сдирают с людей кожу, в этом вся их суть. Они пожирают друг друга. Следовало бы придумать язык светского общения, в котором злословию не было бы места». Сама она была последней, кто следовал этим правилам, и не щадила «знаменитостей — ни дряхлеющих, ни подающих надежды», которых она знала и поддерживала, то есть содержала. Радигё — «бездарь, потому и умер так рано», а Кокто, «с его старомодным хламом» — «прелестный! прекрасно воспитанный — такой милый, что ему можно было простить все… практически нищий, за все платила я…» Иногда она бывала жестокой, даже слишком. О том же Кокто она говорила: «Это обычный мелкий буржуа, который только и делал, что крал новинки…» Не щадила она и Пикассо, — с тех пор как он перестал быть «клоуном, чьи черные глаза ошеломили ее, заставили обернуться, смутили», ни Дали — с тех пор, как тот подурнел, перестал «носить за ухом гвоздику, поглощал сардины банками и клал этих сардин себе на голову, отчего весь ими провонял».