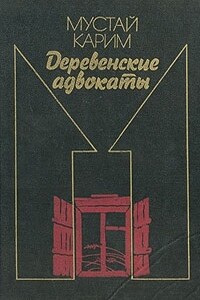Помилование | страница 46
Только сейчас вернулась к нему прежняя злость, ночная обида. «Без нужды и галочье гнездо разорить — грех. Галка птенцов растить, жизнь править строила его, — размышлял он опять. — А тут — тварь божья, людям надобная, пала до срока, без вины и без причины. К тому же сироты, дети малые, в чем только душа держится, последнего пропитания лишились… Нет, зло должно быть наказано».
Ефимий Лукич пришел к твердому решению.
Он завел детишек в дом, накормил всухомятку. Привел перед зеркалом в порядок бороду и усы. Потом достал из сундука одежду, в которой выходил на люди, — синюю косоворотку, совсем еще справную коричневую пару и черный картуз с крутым козырьком. Достал из чулана кожаные сапоги, смазал их дегтем. Хотел было надеть и медаль, которую прислали из Москвы, с сельскохозяйственной выставки, за то, что вырастил уж особо хорошую гречку, но передумал. С одной стороны посмотрел, с другой, покрутил в руках и бросил медаль обратно в сундук. Конечно, тамошние генералы при виде твоей медали так и попадают. Да и ни к чему это — медаль надевать, он же не за отпущением грехов идет, а на виновного управу ищет, справедливости добивается. Он свое и без медали докажет.
Сначала детишкам было в диковинку — сундук открыли, который бог весть сколько был на замке! Они, отталкивая друг друга, бросились смотреть тамошнее богатство. Дедушка велел им только глазами смотреть, руками не трогать. Но потеха была недолгой. Ребятишки встревожились: видно, дедушка собрался уходить. Больше всего они боялись этого — остаться одни. Сначала уехал отец, потом прошлой осенью ушла в могилу мама, оставила их сиротами. Теперь и дед куда-то собрался. Бабушку они уже успели забыть.
— Дедушка, ты куда? — робко спросил Васютка, дед не любил, когда приставали с расспросами. Однако он на сей раз не отрезал, как обычно: «На кудыкину гору!» — объяснил мягко, терпеливо:
— Нужда выпала, ребятки, большая нужда, я к большим начальникам пойду. Я скоро вернусь. Вы пока дома поиграйте, никуда не выходите.
Выросшие в строгости дети спорить не стали.
Вот так, прибравшись, приодевшись, как мог, Ефимий Лукич вышел на крыльцо. Обернулся на лежащую посреди двора козу и направился к воротам. «Пусть лежит, — подумал он, — если что, жертва налицо». Четыре испуганных глаза смотрели ему вослед.
И зашагал, покачиваясь, долговязый Ефимий Лукич Буренкин. Дорога известна: всего километрах в четырех отсюда, в березовом лесу войск видимо-невидимо, так и снуют.