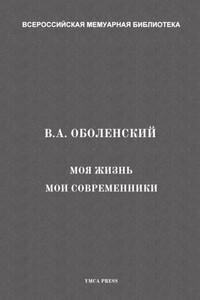Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы | страница 89
В дальнейшем стала проводиться «проверка личного состава адвокатуры». Она велась комиссией из таких тузов, как председатель краевого суда, председатель президиума коллегии защитников, представители краевого ГПУ, краевой прокуратуры, краевого комитета партии. Задавались главным образом политические вопросы. Как пособие к этому экзамену рекомендовалась толстеннейшая книга, которую с трудом можно было поднять одной рукой. Мне лично были заданы три вопроса: 1. Каковы причины Наполеоновских войн? Я ответил по этой книге, что французский нарождающийся финансовый, промышленный и торговый капитал искал рынков и купался в крови. 2. Каковы задачи советских профсоюзов и отличие их от американских и европейских? Я снова ответил, как надо было ответить по толстой книге: «Ввиду того, что фабрики и заводы в Советском Союзе принадлежат рабочим, в задачу профсоюзов входят не защитные функции, а воспитание в духе преданности рабочих своей коммунистической партии, авангарду рабочего класса, а также способствование к поднятию производительности данного предприятия. Заграничные же профсоюзы охватывают незначительный слой рабочих, являются замкнутой кастой, получающей подачки от капиталистов, это рабочая аристократия, в нее проникнуть рядовой рабочий не может, он не организован, бесправен, и поэтому наличие профсоюзов, послушных капиталистам, только облегчает угнетение предпринимателями рабочих».
Затем меня спросили, кто был первый русский либерал. Я не помнил, что было написано по этому поводу в политграмоте, и хотел назвать Екатерину Великую, но побоялся и сказал, что первым либералом был Милюков: все лучше, чем упоминать императрицу. Оказалось, нет. Первым русским либералом был Катков, основатель «Московских ведомостей», сначала либерально мысливший, а затем ставший реакционером.
Первоначальный состав коллегии защитников был более или менее удовлетворительным, так как в нее вошли главным образом старые судебные работники и они старались поддержать это сословие на известном моральном уровне. Способствовало этому и постановление Центрального комитета партии о том, что «нахождение в рядах членов коллегии защитников недопустимо для членов партии как носящих это высокое звание». Таким образом, мы были гарантированы от проникновения к нам «чуждого элемента». Однако это продолжалось недолго.
После «исторических» шести пунктов тов. Сталина, среди которых было и изречение о том, что «кадры решают все», советская юстиция стала обязана иметь свои кадры в адвокатуре, куда и ринулись проворовавшиеся прокуроры, судьи с подмоченной репутацией, рядовые милиционеры и, конечно, работники НКВД, сейчас же захватившие в свои руки все президиумы. Адвокаты на местах были сбиты в юридические «артели» или «коллективы» и обычно сидели в одной комнате за разными столиками, принимая клиентов: один истца, другой ответчика. В такой юридический застенок должен был прийти «пациент» и доверить свои тайны неизвестному человеку среди шума, тесноты, телефонных звонков, суеты и спешки. Среди адвокатов царила склока на почве дележа добычи. Клиент вносит деньги в кассу под квитанцию. Делить поровну? Это неприемлемая «уравниловка». Установить «марки», как в театральном деле? Но каждый претендует на ведущие роли и требует высших марок. Установить дежурного, к которому поступают все сегодняшние дела? Но на следующий день могло быть только одно дело.