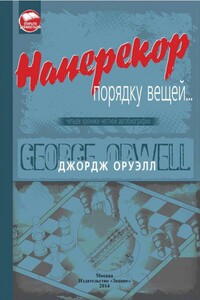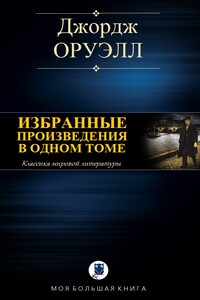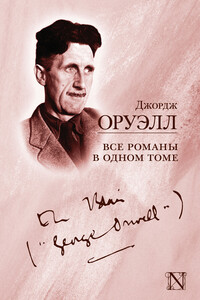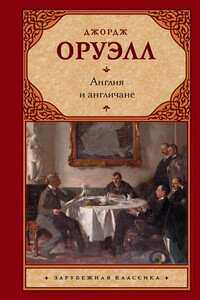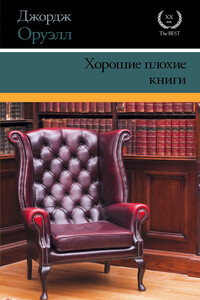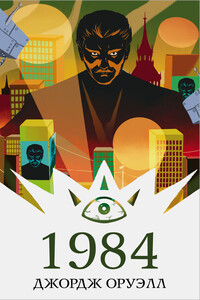Джордж Оруэлл. В двух томах. Том 2 | страница 96
Ни один взрослый при чтении Диккенса не может не почувствовать его ограниченности, и все же остается природная щедрость его ума — этот якорь, удерживающий его в родной стихии. Вероятно, тут главный секрет его популярности. Добродушная антиномичность на диккенсовский лад — одна из примет западной массовой культуры. Она видна в народных сказаниях и комических куплетах, вымышленных фигурах вроде Микки-Мауса и Моряка-Пучеглаза (оба они — варианты Джека-Убоища), в истории социализма рабочего класса, в массовых протестах (всегда неэффективных, но не всегда трюкаческих) против империализма, в порывах, которые заставляют судей налагать большие штрафы для возмещения ущерба, если бедняка сбивает машина богача; это ощущение того, что всегда находишься не на стороне обездоленных, на стороне слабых против сильных. В определенном смысле ощущение это устарело лет на пятьдесят. Простой человек до сих пор живет в духовной стихии Диккенса, но почти все современные интеллектуалы прибились к той или иной форме тоталитаризма. С марксистской или фашистской точки зрения, почти все, за что ратует Диккенс, можно приписать «буржуазной морали». Хотя в моральных воззрениях вряд ли кто более «буржуазен», чем английские трудящиеся классы. Обычные люди в западных странах никогда не вступают — духовно, умственно — в мир «реализма» и силовой политики. Может быть, спустя немного времени, они войдут в этот мир — вот тогда Диккенс так же устареет, как лошадь, запряженная в кэб. В свое да и в наше время популярным Диккенса делала способность выразить в смешной, упрощенной, а потому и запоминающейся форме прирожденную пристойность простого человека. Очень важно, что в этом плане «простыми» могут быть названы самые различные люди. В такой стране, как Англия, несмотря на ее классовую структуру, и в самом деле существует определенное культурное единство. Через все века христианства, особенно после французской революции, западный мир преследует идея свободы и равенства. Только