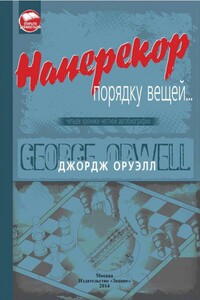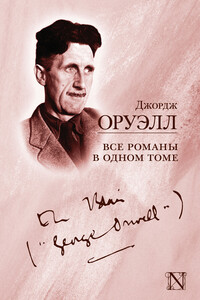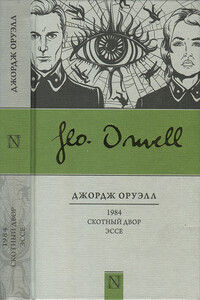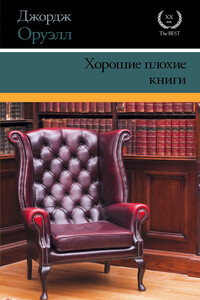Джордж Оруэлл. В двух томах. Том 2 | страница 34
А в гостинице, среди разношерстной толпы ее постояльцев, в большинстве своем не осмеливавшихся высунуть нос на улицу, воцарилась зловещая атмосфера подозрительности. Люди, охваченные шпиономанией, шептались по углам про своих соседей-шпионов: этот шпионит в пользу коммунистов, этот — в пользу троцкистов, этот — в пользу анархистов и т. д. и т. п. Толстый русский агент по очереди отводил в сторонку иностранцев-эмигрантов и доверительно объяснял им, что вся эта история — заговор анархистов. Я не без интереса наблюдал за ним, так как никогда раньше не видел профессионального лжеца, не считая, конечно, журналистов. Было что-то отталкивающее в этой пародии на светскую жизнь фешенебельной гостиницы, идущую за закрытыми ставнями под аккомпанемент уличной стрельбы. Обеденный зал с окнами, выходящими прямо на Рамблас, пустовал с тех пор, как в окно влетела пуля и оставила щербинку на колонне, а постояльцы теперь ели в темноватой комнате в задней части здания, где было тесно и не хватало столов. Штат официантов сократился (некоторые из них состояли в НКТ и участвовали во всеобщей забастовке), официанты отложили до лучших времен свои крахмальные рубашки, но еду подавали по-прежнему со всеми церемониями. Правда, есть было практически нечего. Вечером в тот четверг главным блюдом, поданным к обеду, была одна-единственная сардинка на каждого едока. Вот уже несколько дней в гостинице не было ни крошки хлеба. И даже запасы вина подходили к концу, так что мы пили все более старые и все более дорогие вина. Острая нехватка продовольствия продолжалась еще несколько дней после прекращения огня. Помню, три дня подряд мы с женой завтракали лишь маленьким кусочком козьего сыра без хлеба и ничем его не запивали. Единственное, что имелось в изобилии, — это апельсины. Их натащили в гостиницу французы — водители грузовиков. Это были крепкие парни; компанию им составляли несколько развязных испанских девиц и гигант грузчик в черной рубахе. В любое другое время высокомерный управляющий гостиницей сделал бы все, чтобы «поставить на место» эту публику, больше того, не сдал бы им номеров, но сейчас они пользовались популярностью, потому что только у них из всех обитателей гостиницы имелся свой собственный запас хлеба, и все остальные клянчили у них кусочки.
Ту последнюю ночь, с четверга на пятницу, я еще отдежурил на крыше, а наутро все и впрямь указывало на то, что бои прекращаются. В тот день — это была пятница — постреливали, помнится, все реже и реже. Никто, похоже, не знал наверняка, действительно ли подходят войска из Валенсии; как выяснилось потом, они прибыли в пятницу вечером. Правительство передавало по радио наполовину успокоительные, наполовину угрожающие обращения, призывая всех расходиться по домам и предупреждая, что после определенного часа любой человек, имеющий при себе оружие, будет арестован. На правительственные радиосообщения мало кто обращал внимание, но повсеместно люди начали покидать баррикады. Главной причиной их ухода был, я в этом не сомневаюсь, голод. Со всех сторон только и слышалось: «Нам больше нечего есть, надо возвращаться на работу». Зато гражданские гвардейцы, которые твердо знали, что питание им будут выдавать по норме, пока в городе сохранится хоть сколько-нибудь продовольствия, могли и дальше оставаться на своих боевых постах. Ко второй половине дня улицы зажили своей нормальной жизнью, хотя обезлюдевшие баррикады пока и не были разобраны; по Рамблас потекли людские толпы; пооткрывались почти все магазины, ну а самым обнадеживающим было то, что, дернувшись, вновь побежали трамваи, которые так долго стояли в безжизненном оцепенении. Гражданские гвардейцы по-прежнему удерживали кафе «Мока» и не разбирали своих баррикад, но некоторые из них вынесли на тротуар стулья и посиживали теперь на них с винтовками на коленях. Проходя мимо, я подмигнул одному из них и увидел на его лице вполне дружелюбную улыбку; он, конечно, меня узнал. Над Центральной телефонной станцией развевался только флаг Каталонии — анархистский флаг спустили. Это означало только одно: что рабочие потерпели поражение; я, в общем-то, понимал — хотя в силу своей политической неграмотности и не так ясно, как следовало бы, — что, когда правительство почувствует себя уверенней, последуют репрессии. Но в тот момент меня не интересовала эта сторона дела. Единственное, что я чувствовал, — это глубочайшее облегчение от того, что смолк дьявольский грохот пальбы и теперь можно купить чего-то съестного и хоть немного спокойно отдохнуть перед возвращением на фронт.