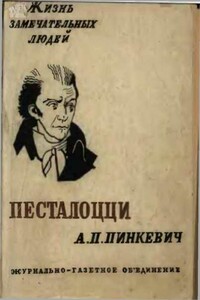Далекое близкое | страница 47
Доняшка учила, чтобы я прежде вышел к саду Дворянской улицы и по-над стенкой — тут все-таки люди ходят — пробрался потихоньку к казармам; а там мне уже видны будут наши осиновские бабы.
С узелком (в нем на тарелке было положено съестное для маменьки) я поднялся на Гридину гору и прошел дальше к плетню Дворянского сада; там я увидел, что собаки со страшным лаем понеслись к кладбищу и к Староверскому лесу.
Я обрадовался и почти бегом пустился к казармам, и бабы наши уже были мне видны.
Девки пели песни и мешали глину с коровьим пометом и соломой. День был жаркий, и они почти все были покрыты белыми платками и косынками, чтобы не загореть. Мне трудно было узнать маменьку, я стоял и всматривался.
— Степановна, это, верно, вам Илюнька принес обед! — крикнул из-под одной косынки голос Химушки.
— Барыня, белоручка, — кивали бабы в сторону маменьки, — узнаешь, небось, как поселянки работают, а то вишь все отбояриваются. Что у нее братья в благородные из кантонистов>[45] повышли, так уже она и барыня!.. Небось, Середа тебе покажет барство!.. Вишь и мальчонка — в чем душа держится, босиком ходить вишь не привык, а штанишки на одной подтяжке… У самой-то кожа на руках нежная, сейчас до крови стерла, как стала месить глину. Я уж и то говорю ей: «Ну, уж носи, подавай, где тебе месить». Ногами тоже босиком ступить не может: колко ей… Привыкнешь, матушка… Обеднела без мужа; далеко, говорят, угнали.
Подошла Химушка:
— А что, жив остался? Как это ты собакам не попался? Вишь загорел как, поздоровел, а то был совсем бумажный.
Маменька подошла ко мне; она была под черным большим платком, спущенным низко. Лицо ее было так красно и блестело от слез так, что я едва узнал ее…
— Ах, напрасно ты всё это нёс, мне и есть не хочется! — сказала маменька.
Мы сели на высохшей травке.
— Как же ты от собак прошел? — спросила маменька.
— Я, как Доняшка сказала, к садам, к плетню, а оттуда, как увидел, что собаки понеслись к окопу, я скорее сюда.
У маменьки руки были в глине, и местами из них сочилась кровь.
— А трудно, маменька? — шепчу я. — Можно мне за вас поработать?
Маменька рассмеялась сквозь слезы и стала меня целовать. Я никогда не любил целоваться.
— Маменька, — отталкиваюсь я, — может быть, поселянам нельзя целоваться? Не надо…
Маменька заплакала, посмотрела на свои руки и пошла к общей бадье вымыть их.
Потом мы сидели; маменька ела обед. Нам слышен был лай расстервившихся собак, и когда ветерок шел оттуда, доносилась даже сюда нестерпимая вонь от дохлятины из Страшного рва.