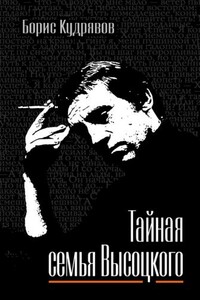Далекое близкое | страница 43
Быстро пролетали эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой.
Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так в них впился, в свои красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни. Я раздосадовался и расплакался до того, что у меня пошла из носу кровь и долго шла, и ее долго не могли остановить, и я совсем побледнел. Помню, как кровь моя студнем застыла в глубокой тарелке, как мне мочили холодной водой затылок и прикладывали к шее большой железный ключ от погреба; надо было еще поднимать высоко правую руку: кровь текла из левой ноздри. Оправился я кое-как только дня через три. Кровь перестала итти, и я сейчас же — за красочки. Но недолго я наслаждался: вдруг, к моему ужасу, большая красная капля капнула на мой рисунок, другая, третья, и опять полила, полила. Ах, какая досада! Опять надо было сидеть смирно, поднявши голову, и правую руку держать вверх. Тоска сидеть в таком положении, и я чувствовал себя совсем больным. Сначала раздражался капризно, а потом уже спокойно лежал на лежанке и почувствовал через несколько дней, что не могу держать голову: она клонилась на грудь или на плечо; также и спина моя не держалась: сидеть я не мог, кротко лежал и уже равнодушно слушал, как бабы-соседки, приходившие мерить свои шубы, безнадежно махали на меня рукой и откровенно советовали заказывать мне гробик и шить «смертенную» рубашку и саван.
— Не жилец он у вас, Степановна: посмотрите, какие у него ушки бледные, и носик совсем завострился. Помрет, накажи меня бог, помрет. Это — верная примета, когда носик завострится, это уже не к житью. Вот у Субочевых так же мальчик хворал: тот с перепугу. И переполох ему выливали и заговаривали. И что же? Что ни делали — умёр.
Я посмотрел на свои руки и удивился, какие они белые, бледные, с синими жилками, и все косточки и суставчики отчетливо видны были на тонких пальцах, а ногти отросли длинные, белые.
И вот лежу я почти неподвижно и отлично слышу со своей лежанки всякое слово, даже шопот приходящих и уходящих баб; даже из кухни все слышно, даже когда шепчут.
Прибежала Химушка Крицына. Обращается к Доняшке, нашей работнице, молодой еще девочке из семьи соседей Сапелкиных.
— А что, еще не умёр ваш Илюнька? Жив еще? А сказали еще вчера, что кончается: носик завострился… Алдаким Шавернев называется сделать ему гробик, пока мы бы его и обшили позументиком. А можно взглянуть на Илюньку? — спрашивает она и отворяет дверь ко мне.