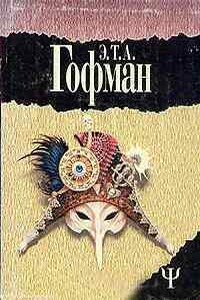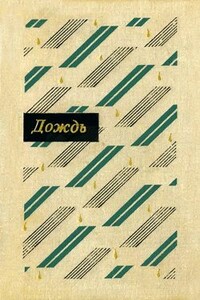Сестра Моника | страница 39
Я отвечала:
— Должно быть это Иов[116].
— Нет, дитя мое — тот, кому не посчастливилось родиться без рук и ног. Скажи мне тогда: кто счастливейший среди людей?
Я сказала:
— Тот, кто всем доволен.
— Нет, дитя мое! Тот, кто потерял рассудок! — И все ему зааплодировали. — А теперь ответь мне на третий и последний вопрос: сколько будет двадцать плюс пять?
Я молчала.
— Ах, так! И этого ты не знаешь, а раз не знаешь, то должна эти двадцать и пять почувствовать, — и он вытащил плеть и отпустил мне, словно Doctor optime[117], двадцать пять таких ударов, что я кричала, будто одержимая, в то время как другие давали себя гладить и ласкать и звонко смеялись над моим несчастьем. Когда проповедник закончил, синьор Пьяно пожалел меня, взял за руку, встал передо мной и заиграл:
— Оставьте меня в покое! — рассердилась я и оттолкнула его; проповедник прочитал мне лекцию, которую я теперь буду носить с собой четырнадцать дней.
— Pauvre enfant[119], — вступила Шоделюзе, — мне жаль тебя! Но ты должна понимать: твоя мать доверила тебя мне лишь с тем условием, что я научу тебя переносить боль. Поэтому...
Я молчала, сестры окружили меня; Герундио еще раз поцеловал свой трофей, и мы с пустыми кувшинами отправились домой.
Пьяно шел впереди нас и играл на скрипке:
Все весело подпевали, я же была тиха, как мышь.
Это случилось, сестры мои, на Крещение. В Страстную пятницу все было иначе. Но, прежде чем я расскажу о том, что там произошло, хочу вам поведать историю переодевшегося в Фредегунду Сен-Валь де Комба, которую я записала и выучила наизусть.
Когда, уставшие и изнеможденные телом и душой, мы вернулись домой, я вместе с Евлалией и Фредегундой ушла в свою комнату, и там, после удивительных событий последних двух дней, мне ничего не хотелось, кроме покоя, поэтому я разделась и легла в постель; Фредегунда решил пошалить со мной, но я с силой оттолкнула его. Разозлившись, он схватил Евлалию, бросил ее на мою кровать мне в ноги, раздел и два, три раза удовлетворил свою похоть; после этого они выпили чаю с печеньями, улеглись у меня под боком, и Сен-Валь сказал:
— Я должен рассказать вам свою историю, Амалия! Вы уже познали мое тело, теперь же я желаю показать вам свою душу, хотя бы немного, столько, сколько под крайней плотью необрезанного можно разглядеть его достоинства.