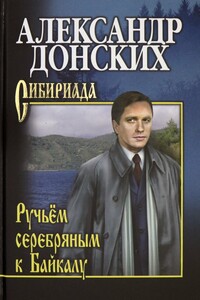Отец и мать | страница 93
«Радуется батя. Точно ребятёнок», – с мрачной ироничностью отмечал Афанасий, однако чувствовал, что душа от минуты к минуте легчает, распрямляется и даже веселеет. Возможно, этот свистящий, жгучий вихрь сдувает с неё накипь горечи и разочарования.
За тройкой вьюжило снегом ещё несколько саней с ворохом гомонливого, развесёлого, изрядно хватившего люда. Наяривали гармони, хотя пальцы гармонистов зябли и коченели, бабы, укутанные цветистыми шалями, залепленные куржаком и полыхающие щёками, разливались песнями, частушками. Кучеры явно лихачили: наезжали, вроде как соперничая, к бокам или даже наперёд тройки, благо, ехали не шоссе, а окольными путями, через поля и елани по пока ещё неглубоким снегам.
– Какая прелесть, какая прелесть, – всё шептала обворожённая невеста.
Афанасий приметил бусинку слёзки-росинки, подмёрзшую на нижнем веке её глаза. «Все радуются и волнуются. Один я заледенённый».
– Эх, вжарь-ка, Петро! – неожиданно попросил он гармониста и несоразмерно громко и неестественно басовито подтянул песню, услыша её с соседних возка и розвальней:
Оборвал песню. Смотрел недвижно, не мигая, осознанно мучая глаза, в кипенно-жгучие глубины далей.
Илья Иванович, тоже молодечествуя, здорово наддал вожжами и бичом ожёг коренника – тройка унеслась далеко вперёд, и песня вовсе затерялась в снегах и стуже.
– Афанасий, что с тобой? – робко спросила Людмила.
Он не ответил – обнял её крепко-крепко, но голову прижал к своей груди: возможно, чтобы она не смогла заглянуть в его глаза.
– Ой, мне больно.
Приослабил хватку, но в глаза свои не допустил.
Наконец-то, и родная Переяславка. С крутоярого взгорья опрометью помчались к селу, встретившего поезжанье тугими, но гибкими хвостами печных дымов. Просинями воды приветно помигала ещё не одолённая вконец льдами Ангара.
Мчат, горланят, визжат – встречай, деревня! Встряхнуло на кочке – гармонь взвилась и нырнула краснопёрым окунем в сугроб, с кого-то валенок слетел. А свидетель, с непривычки, да к тому же по пути опоили его, так и вовсе не удержался – бултыхнулся в кусты. Нос, бедняга, ободрал, а так ничего, обошлось. С хохотом обмыли ему лицо самогоном, поливая из бутыли и стараясь попасть струёй в его рот. За руки за ноги забросили очумелого паренька в розвальни. Обули разутого, отыскали и всучили гармонисту гармонь, заставили играть, посоловелого от хмеля. Понеслись.