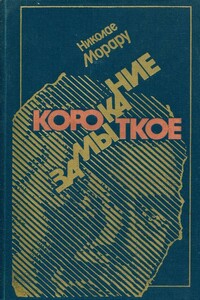Записки падающего | страница 17
Мне показалось, кто-то идёт сюда. Я мигом встряхнулся. Трезво поглядел вокруг себя. Нет, просто отец или мать поднялись с дивана, чтобы свет включить, и вернулись обратно на диван. А у меня в комнате было сумрачно. Битлз, как тени, расплывались на стене. Надо завтра же снять… А сейчас — спать. Я вдруг почувствовал нормальный позыв ко сну, впервые на неделе…
Я пошёл в ванную чистить зубы. Родители ни о чём меня не спросили, когда я проходил мимо, когда шлёпал обратно. Мать сидела серьёзная, подавшись корпусом вперёд, вся устремившись к экрану. Отец — наоборот, откинулся назад, слегка развалясь, правая рука поверх спинки дивана, нога на ноге. Я всё-таки закрыл дверь — но показалось мало. Высунулся к ним в комнату, уже в трусах: «Сделайте потише…» — «Ты уже спать?» — удивился отец, а сам не отрывался от телевизора. — «Угу…» — пробурчал я. — «Мы завтра часов в двенадцать уедем», — сообщил он, всё так же глядя мимо меня. «Угу…» — опять ответил я. Больше мы ничего не сказали друг другу, а на следующий день вообще не виделись.
Утром дверь их спальни была закрыта, — на ночь они предпочитают её закрывать. Любят тепло. Я вставал часа в три — в туалет — и свою дверь распахнул. Эрекция дикая от этой духоты. А они ужасно любят тепло и покой. А днём они уехали. Я примчался часа в четыре, прямо с работы. Никуда не заходил. Открыл дверь и ещё с порога замяукал что-то такое, вроде бы шутейное: «Ау-у», — и как будто эхо послышалось, так было тихо. И с первого взгляда просматривалось, что их нет: пальто не висят, не стоят башмаки. Только у ножки стула, на котором отец сидит, когда завязывает шнурки, прислонённая, стояла сумка-саквояж. Она такая глянцевая, коричневая, ей, наверно, лет пятнадцать. Родичи в ней возят хлеб. Я схватил её, встряхнул, — пустая. Странно. А сам уже сдирал нога об ногу кроссовки, раз, раз. Прямо в куртке, буравя спёртый воздух, пронёсся по комнатам. На ходу форточки открывал. Вот вам и застой. Потом вернулся опять к порогу, скинул куртку — на крючок вверху, а сам упал на шнуровочный стул под ней и сидел сколько-то времени не двигаясь. Продолжил мысленно сочинять письмо, начал его, как только сел в трамвай, и писал всю дорогу. Естественно, опять к Мандро.
«Понимаешь, — горячился я, — ну какую правду я мог им сказать? Какую правду? Объяснить! Да что я мог им объяснить! Если я сам ничего не понимаю!»
Но я уже не письмо писал, то есть, не сочинял какие-то предложения, фразы, которые бы надо отдать бумаге; я уже дальше проскочил, в следующее состояние, не такой и редкий для меня переход. Я уже беседовал с ним, и он представлялся мне как живой, абсолютно самостоятельный, независимый от моей воли человек. Конечно же, несколько бледноватый и вполне умозрительный человек-образ, потому что это же не галлюцинация была, по крайней мере, ещё далеко не полная…