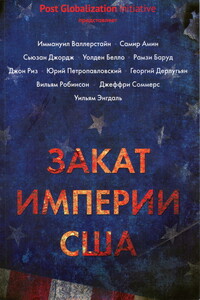Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018 | страница 69
Авторы вписывали свои рекомендации в рамки идеи «единого учебника» и помимо прочего предлагали «ориентировать профессиональное сообщество историков на разработку при участии представителей органов государственной власти методологически обоснованных критериев выявления попыток фальсификации исторических событий и оценки ущерба, наносимого обществу деструктивным информационным воздействием»[197].
Судя по всему, эти предложения в конечном итоге не повлияли на содержание учебников (по крайней мере тех, которые в 2015 году появились в рамках инициативы «единого учебника»)[198]. Однако терминология и политическая направленность доклада свидетельствуют о наличии достаточно радикальных представлений об исторической политике среди части российского высшего политического истеблишмента.
В целом постсоветское пространство во многом повторяет сценарии и практики исторической политики «Восточной Европы». Это связано не только с общностью исторического опыта, но и с наличием общего конституирующего Другого. Общее наследие определило и общие пути разбирательства с этим наследием, что, в свою очередь, способствовало подражательству и заимствованиям. На Украине по образу и подобию польского был создан институт национальной памяти, похожий проект разрабатывался в России, в Молдове некоторое время действовала комиссия, копировавшая опыт исторических комиссий стран Балтии, наблюдались откровенно подражательные проекты создания мемориальных комплексов.
Подобно своим собратьям из «Восточной Европы», культурные и политические элиты постсоветского пространства оказались не очень восприимчивы к идее признания ответственности за Холокост (разумеется, речь идет о европейской части).
Роль главного конституирующего Другого в исторической политике постсоветских государств парадоксальным образом была подхвачена российским правящим классом, в очередной раз увлекшимся идеей «особого пути» и проявившим готовность поддерживать идею особой миссии своей страны в мире со всеми вытекающими последствиями. Для соседей же «особый путь» России был свидетельством ее неоимперских амбиций.
В то же время на постсоветском пространстве четко прослеживаются явные отличия от практик исторической политики «Восточной Европы». Здесь отсутствовали или наблюдались разве что в эмбриональной форме любые варианты «переходного правосудия» (обычно они ограничивались формальной реабилитацией жертв политических репрессий). Восстановление этнонационального нарратива в большинстве случаев радикализировалось постколониальными синдромами. Доступ к архивам репрессивных органов советских времен был или кратковременен, или непоследователен. «Декоммунизационная» составляющая исторической политики также была непоследовательной и несистемной, очень зависимой от колебаний политической конъюнктуры.