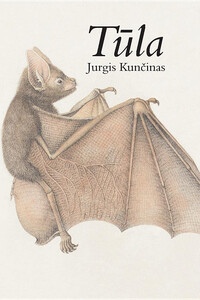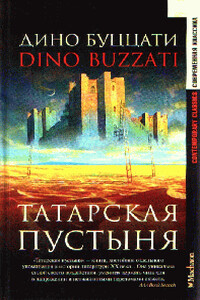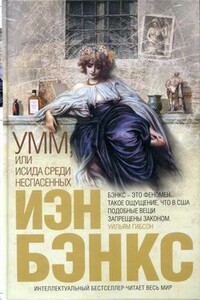Менестрели в пальто макси | страница 49
Два метра восемь — таков был подлинный рост Вероники. Я измерил его, пока она спала: до копчика метр сорок девять. До чего же все-таки прекрасно сложена и даже красива. Еще совсем недавно были у нее муж и малое дитя, они бежали в Польшу, вроде бы в Кельцы, такие оба малюсенькие, забавные. Она рассказывала и плакала. Гасли свечи, Вероника сажала меня к себе на колени. Рассказывала страшные случаи из прошлого - о восстаниях, войнах, послевоенной разрухе, что было страшнее всего. Я силился не верить, но все равно верил - настолько образно и убедительно выглядели ее рассказы. Она приводила подробности, каких человек не выдумает. Говорила, будто ей сто пятьдесят лет, но ей уже давно столько, и больше она не старится. Она пережила двенадцать мужей - кто умер, кто пропал без вести, кто сбежал, а одного она догнала и убила, слишком много знал, гаденыш. Да еще пытался деньги прихватить.
Перед тем, как уснуть, она с каким-то облегчением вздыхала, брала меня на руки и укладывала в широкую люльку - боялась меня заспать: так она, оказывается, ненароком задушила графа Корево, забредшего сюда для глухариной охоты... О, еще до Великой войны, самой первой...
Однако все приедается — кагор и крупник, и сказки о волшебной лампе Аладдина. Воспоминания о 1812 годе, когда один французский генерал приказал своим гренадерам заласкать ее до смерти, а она, расшвыряв всех лягушатников, завалила самого генерала, и он испустил дух, едва только лег под нее... понимаешь, малыш?
Тогда мне было года двадцать четыре, трое моих сынишек уже бегали в Латвии, дочурка мыкалась в Гуди, не был я никаким малышом. Но ей, Большой Женщине, не было до того дела. Временами я вспоминал Юдицкаса - достал ли он свои бревна? Хороши ли? Подошли? Мастерит ли Юдицкас-богорез своих божков? Кто мог ответить мне на такой вопрос? Я лелеял одну надежду - вот закончится кагор, тресковые консервы и растительное масло, не останется моченых яблок... и тогда...
- Завтра! - сказала Большая Женщина однажды вечером, однако ночью так расхворалась, что я испугался: не конец ли это? Она поднялась, три недели просидела у окна, что-то бормотала, но поправилась.
- Ну, пойдем! - вымолвила она и залилась слезами. Было светло, и не было нужды зажигать свечи. На мое счастье. Солнце было в глаза, когда мы вышли к тому месту, где я забрался к ней на закорки. Она шла, ломая болотный лед, ступала затрудненно, цепляясь за березовые стволы, но шла. Когда мы выбрались на сухую твердь, запихнула меня к себе за пазуху, и я долго возился там, а она лишь ласково вздыхала. Вот это Женщина! Выпускает на свободу, как ручного зверька. А я и не верил, боялся, что удержит на веки вечные.