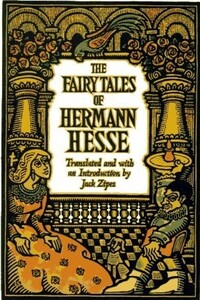Новеллы и повести | страница 65
— А мне, по моему глупому разумению, сдается, что панам надо было мужиков хоть немного разуму поучить, хотя бы годика два перед тем, как объявить восстание. Все, как один, и поднялись бы. Так почему, прошу прощения, этого не сделали?
— Сдается мне, барин, что среди этих разбойников, душегубов да висельников, что с нами тут сидят, может, половина таких, которые не со зла закон преступили, а жизнь у них не задалась. С голоду, с горькой нужды, с того, что люди от них отвернулись. Вельможный пан с ними не водится, а я-то их всех знаю. Чего они только не рассказывают. Страх слушать! А суд вершит судья, которому ни красть, ни убивать не надо, потому как он с малолетства учился, и от родителей у него деньги есть, и жалованье он громадное получает за судейство. Разве это правильно? Может, есть какие книжки, где сказано, что так не должно быть?
— Из-за денег, барин, наверно, больше всего зла на свете. Разве ж это справедливо, когда, к примеру, один потеряет свои кровные, заработанные деньги, а другой, бездельник, найдет и пользуется? Оттого и честность, выходит ни к чему. Каждый так и норовит у ближнего деньги вытянуть. Разве ж это правильно, чтоб у паршивой раскрашенной бумажки, как та сторублевка, сила такая была?
Разные вопросы задавал Франек, и по-разному отвечал на них пан. Иногда объяснял охотно и обстоятельно, а иногда учеными словами начинал сыпать, да только все не о том. И тогда злился пан и умолкал. Не раз в таких случаях бранил он Франека и приказывал молчать, а потом столько задавал выучивать, что мужик, смекнув, долго раздумывал, прежде чем решался о чем-нибудь таком спросить:
— А сдается мне…
С превеликим усердием постигал Франек разные премудрости. Гордился он, что столько уже знает, а хотел бы знать еще больше. Сам уже начал читать, а пан только объяснял трудные места. Да и писал недурно и с наслаждением переписывал из книжки в тетрадку целые страницы, особенно понравившиеся ему. Любил в разговоре с паном щегольнуть трудным словечком и сам себе удивлялся, каким он ученым стал.
А время не текло — висело над их тюремной жизнью, словно густая, удушливая пыль. Надолго растягивались часы и дни, и не считали они месяцев и лет, потому что не на что было им рассчитывать, и не происходило в их жизни никаких событий.
Дышали этой тюремной пылью времени и пан, и слуга: один — отчаявшись, с тупым безразличием, другой — с мужицкой терпеливостью, которая от века мужика спасает.