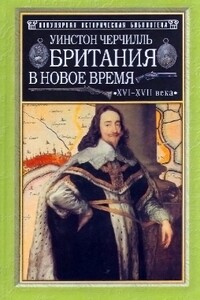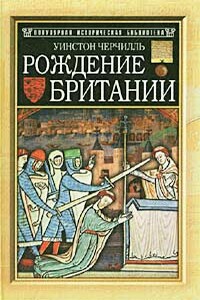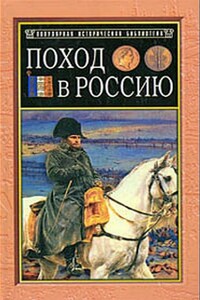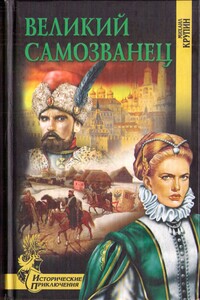Окаянный престол | страница 5
Из-за оград просачивалось жалостное пение, едущий мимо забора гусар привставал в стременах, тянулся страстно, вскидывал коня свечой, и, бывало, везло: он встречал на миг огромные, запретные, невыносимые глаза, как раз возлетавшие, будто на крыльях игристой парчи... Всю барышню, всю терпеливую нежность её, нечерпано, невозмутимо отстоявшуюся до прозрачности, читал вдруг рыцарь в этом взоре. Забывал польский рыцарь себя и коня на дыбах, шенкеля и поводья, падал с конём вместе навзничь и убит бывал.
А живым всё одно не было хода в тёплые сады. «От веку» не слыхано здесь было ни указа, ни иного уложения, чтобы водить на усадьбу к себе хоть семижды достославного католика. (Впрочем, не пустили бы и православного незваного туземца из Заречья, Юрьева или Торжка). И в палатах никто не помышлял дать всем такое правило — в те времена возлежал ещё, как сам хотел, хозяин-барин на своей лежанке, и ненароком плясали все законы от его печи, а не летали на неё прямой наводкой из Кремля.
Сидючи за частоколом, муж знал: царство-сударство, подписываясь под Судебником и Домостроем, на самом деле только признает и величает его, крепкого хозяина, норов и обычай. У такого сударя и сама сударыня узнавала себя в образе Сильвестровой хозяюшки-рабыни поневоле: что ж тут делать? — не умела выставить вокруг себя, внутри усадьбы, от хозяина ещё один жестокий частокол. Девушки из семей поважнее почти все были розданы замуж за лучших людей как слепые, до самой свадьбы только представляя женихов. Невероятно, но находились счастливые пары или поклонившиеся со смиренным удовольствием судьбе. Разочарование, венчающее сговор-торг и сказочный обряд, в другой раз обесстыживало женственность и выжимало из души её едкую мстительную теплоту. Когда бывал разочарован муж, всю не нашедшую, где полагалось, приюта страсть он сводил в кулаки и вбивал их снаружи в супругу, после бежал по корчмам с ещё потяжелевшим чувством. Супруга за семью задвижками копила и настаивала яд на горечи сердечной...
Но вот она садилась вышить для монастыря на паволоке молодую Богородицу с рассеянным младенцем. Вот она брала у няньки на руки и сама успокаивала грудью малыша, спросонья возмутившегося явью твёрдых теремов. Продолговатый кулёк, клокоча, басовито вопил на последней ступени отчаяния, потом в один миг усмирялся, улыбчиво чмокал под грудью и потом воздыхал, как отдавший все силы, совсем заблудившийся странник. И Богородица, и сама непоругаемая в вечном материнстве жизнь — всё продлевающаяся откуда-то куда-то — утешали женщину.