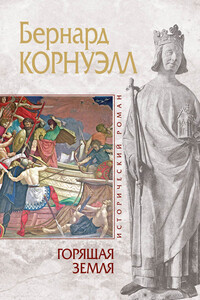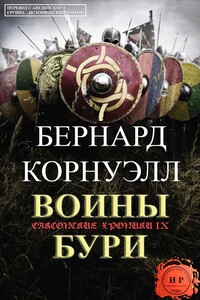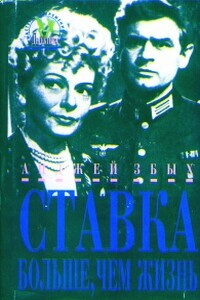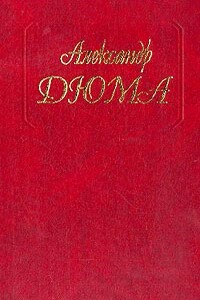Бледный всадник | страница 12
– Я потерял счет своим шлюхам! – завопил Этельвольд и начал молотить кулаками по грязи. – О Господи, я так люблю женские груди! Господи, я так люблю голых женщин, прости меня за это!
Смех становился все громче, причем собравшиеся наверняка вспомнили, что и Альфред, прежде чем благочестие поймало его в свои липкие сети, был сам не свой до женщин.
– Ты один можешь помочь мне, Господи! – закричал Этельвольд, когда мы проползли еще несколько шагов. – Пошли мне ангела!
– Чтобы ты его трахнул? – крикнул кто-то в толпе – и смех превратился в радостный гогот.
Эльсвит, услышав такую непристойность, поспешила прочь.
Священники зашептались, но покаяние Этельвольда, хотя и столь необычное и вызывающее, казалось достаточно искренним. Он плакал. Я знал, что на самом деле этот юноша смеется, но он выл так, будто душа его корчилась в муках.
– Больше никаких женских грудей, милостливый Господь! – выкрикнул он. – Никаких грудей!
Да, Этельвольд выставил себя на посмешище, но, поскольку все уже и так считали его дураком, не возражал против того, чтобы над ним посмеялись.
– Не подпускай меня к женским грудям, Господи! – вновь завопил он, и Альфред, не выдержав, ушел.
Большинство священников ушли вместе с королем, поэтому когда мы с Этельвольдом подползли к алтарю, рядом с ним уже никого не было.
Тогда облаченный в грязное рубище Этельвольд перевернулся и прислонился к столу.
– Я его ненавижу, – негромко проговорил он, и я понял: он имеет в виду своего дядю. – Я его ненавижу, – повторил юноша, – и теперь ты у меня в долгу, Утред.
– Да, – ответил я.
– Я подумаю, что у тебя попросить.
Одда Младший не ушел вместе с Альфредом. Его, казалось, развлекало происходящее. Однако как следует насладиться моим унижением ему не удалось: все испортил развеселивший народ Этельвольд. К тому же Одда понимал, что все наблюдают за ним, возможно сомневаясь в его правдивости, поэтому он на всякий случай придвинулся ближе к огромному воину – очевидно, одному из своих телохранителей. Воин был высоким и очень широкоплечим, но внимание привлекало главным образом его лицо – оно словно не знало иного выражения, кроме неприкрытой ненависти или волчьего голода. Кожа слишком туго обтягивала череп этого человека, от воина веяло жестокостью (так пахнет мокрой шерстью от гончей), и, когда он посмотрел на меня, взгляд его походил на взгляд бездушного зверя. Я понял: человек этот не задумываясь убьет меня по приказу своего господина. Одда был ничтожеством, всего-навсего испорченным сынком богача, но деньги давали ему возможность приказывать другим людям убивать.