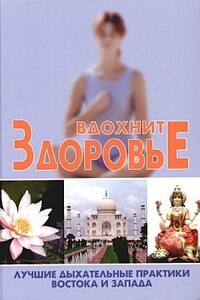Шушель | страница 7
— Слушаю! — очень противно попыталась передразнить Шушеля трубка, и просыпающееся в приятных потягиваниях сердце Шушеля вдруг бухнуло и понесло. Дразнилась левретка. Шушель закрыл микрофон лапой, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, успокоился (чему быть и т. д.) и продолжил неудовольствовать.
— Кто?
— Конь в пальто, — на этот раз левретка дразнилась со смыслом и не без интимности — про коня Шушель часто говорил сам и слово это любил. Пришлось признавать абонента.
— А, привет.
— Привет. Узнал?
«Интересно, скажет ещё раз про коня или нет? — подумал Шушель. — Впрочем, с неё станется».
— Узнал. А это кто? — Шушель заранее поморщился.
— Конь. В пальто.
— А, так это ты. Привет.
— Так это я. Привет.
Шушеля стала занимать эта игра в повторялки, но он решил не тянуть, а выяснить, что у них было и как они вообще договорились. Следует ли им чинно встретиться и послушать, что прикажет сердце, или же Шушелю, как честному кобелю, уже пора собираться в контору, где записывают акты, так сказать, гражданского состояния. Но как об этом спросить, да, чёрт возьми, как?
— Ты что, не рад? — спросила левретка (кстати, имя у неё было примерно настолько же приятное уху Шушеля, насколько Шушель был сейчас рад) — левретку звали Люся. Не «Люси», что звучало бы прелестно при ударении на любой слог, а именно Люся. Это, вполне себе нормальное, кстати, имя отчего-то тащило подсознание Шушеля к депрессивным ассоциациям — мещанство, лицемерие, скрытая агрессия.
— Да рад, конечно. Просто я себя неважно чувствую, — Шушель вспомнил вчерашнее утро, примерил тогдашние ощущения — и ему как-то даже поплохело.
— Ну, это ничего. Как раз, значит, пора выбраться на улицу. Я же тебя сегодня с мамой знакомлю. Или ты забыл?
Тут в голове у Шушеля взорвалось, был гром, и была молния, и было воображение Шушеля, которое нарисовало ему аллегорию — он, Шушель, на необитаемом никем, кроме Люси (родительный падеж от «Люся», не путать с «Люси» в именительном!), острове, смотрит вслед воздушному шару. Шар летит на материк, к добрым собакам и прекрасным невестам, с вестью, что Шушель — ВСЁ, и на этот шар он только что не попал, а других шаров (самолетов, кораблей) не будет. Картина была красиво освещена вспышками молний и озвучена артистом, который обычно смеется в кинематографе или театре вместо Мефистофеля. А всего-то и надо было сказать, только сказать сразу, с напором, бодро и весело, в порядке самокритики: «Привет! Представляешь, весь день тогда не ел, не выспался что-то, ну и… Как я? Ничего хоть себя вёл-то?» — и дело в шляпе, а Шушель, соответственно, в шаре. То есть в корзине, конечно, ну, да вы поняли. Однако, то, что называют инициативой, Шушель упустил, а признаться в амнезии, уступив давлению, он не мог. Было в этом что-то неприличное, стыдливое, потаённое, но не то потаённое, о котором часто пишут стихи (и прозу тоже пишут). Другое. Хуже гораздо.