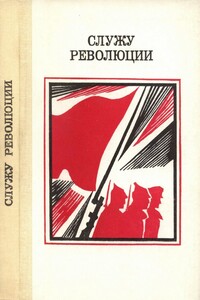Вокзалы | страница 21
— Вы кто?
— Гражданин города Сохачева, по командировочному документу, вот документы.
— Вы знали в городе Рассейске гофмейстера, генерала, генерала Арапова?
— Ну?.. — спрашивает гражданин, он выпрямляется, прям, как струна: он уже ответил.
Товарищ Анатолий торопливо пишет записку:
— В вагон Особотдела… некогда…
Он смотрит вслед уходящему, он знает — что это уходит навсегда костлявой упорной спиной…
Генерала доводят до пакгауза, дальше идти незачем, провожатые переглядываются, понимая друг друга. Генерал чувствует, быстро повертывается, губы на белом лице горят.
— Ну? — щемит тихий голос.
— …нет, только сумрачью толпились у порога, дальше не смели; за перронами шеренга покорно зябла, ежилась, ляскала зубами, никому не было до нее дела — все равно гнали на фронт. Из шеренги глядели в мокрую тьму: где-то за грудой путей и огоньков чувствовалась та земля, огромная, черная, страшная; тусклые миры вокзалов казались уже невероятными, они были накануне ее, перроны, фонари краями нависали над смертью; задыхающийся свет, резко и празднично горевший в вагонных окнах, был как глухая боль…
Звонили звонки, распахнулись двери, за которыми горело тысячью ламп. С перронов неохотно поднимались, отползали, давая дорогу, провожая идущих слипшимися от лежанья, кровяными глазами. У вагонов толпились офицеры, с папиросами в углах ртов, пропуская вперед дам, смеющихся и боязливо неловких на ступеньках, поддерживали их, как драгоценность, за локти, за талии шелковых манто; с перронов на них глядели дико и изумленно.
И к вагонам прошел генерал — на рельсах вытянулось, оцепенело — генерал прошагал не глядя, раздражительный, для всех этих неприкосновенный, грозный — он был взволнован разговорами о политике. И за ним — в мехах, качающая бедрами; зубы ее под трауром смеялись; надушенным крепом — словно туманящим дыханьем ее самой — Тольку задело по лицу.
Он узнал обоих.
Окна вагонов стояли, как та ночь в саду.
Из сырых степных потемок пронеслись ветры с пьяной упорной силой, — в вагонах крикнули: слышите, это весна. И как будто опять тоской, огнями, чужим счастьем осыпалось из сада, шумела топотами ночь, за вокзалами согнанные из волостей в самсоновскую армию запасные, Эрзя, опять бежали по улицам, по терзающим площадям, бежали еще живые, но уже обреченные — на головах снились синие пятна проломов…
И за ними поведут его, этих мерзнущих на рельсах, они все — одно, слежавшееся в мутных потемках в комья уже неживого, кинутого; то, что осталось еще — надвигалось тусклыми нарами воинского, последней ездой, сумраками, дыханьем ждущей где-то озверелой резни… Вагоны захлопывались, замыкались навсегда в свои сияющие недоступные уюты.