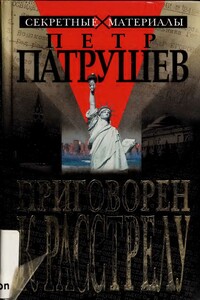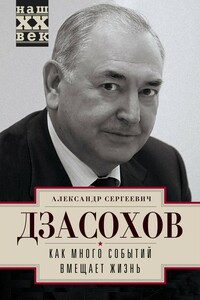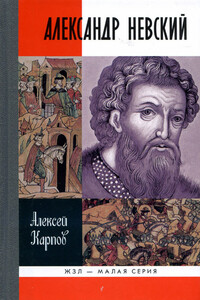Тюремные записки | страница 15
Еще был какой-то тоже недавний солдат, который служил в Москве в каком-то строительном спец батальоне. И вся его воинская часть, расположенная где-то на Преображенке, кажется, человек шестьсот — поголовно и с ведома начальства — по ночам занималась кражами и грабежами. Каждый солдат, возвращаясь после «охоты» должен был дежурному офицеру дать бутылку коньяка. Тот, видимо, передавал сослуживцам и начальству. Причем у каждой группы были свои интересы. Мой сокамерник рассказывал о группе, которая регулярно обчищала склад какой-то московской гардинной фабрики. Грабили они его раз десять, начальство не заявляло о грабежах, да и когда солдаты были пойманы, никакой недостачи там не обнаружилось. А попались они на том, что однажды так набили рулонами ткани багажник такси, что багажник сам открылся и кто-то из водителей ехавших позади машин это заметил и сообщил куда следует. Но мой сосед входил в группу, которая грабила по ночам продуктовые магазины. Его специализация была стоять «на стреме», то есть чуть вдалеке от магазина и жалобы, которые я по его просьбе писал, начинались с того, что он, увидев, что готовится преступление не захотел принимать в нем участие и даже довольно далеко ушел, но не знал куда идти и только поэтому был арестован. Единственным недостатком этих жалоб было то, что ограбленных магазинчиков было несколько, а каждый эпизод приходилось начинать с того, как он решил уйти от преступников. Результаты их грабежей тоже оказались совсем не такими, как на гардинной фабрике. Директора магазинов охотно указывали, какое чудовищное количество продуктов было украдено. Сотни бутылок коньяка и дорогих вин, сотни же килограммов ветчины, буженины и других самых дорогих продуктов. Причем ко времени инвентаризации после грабежа их действительно не оказывалось в наличии в магазинах. Но судил солдат московский военный суд, который в те времена был приличнее остальных. Ссылаясь не столько на показания солдат, которые говорили, что почти ничего не брали, сколько на практический подсчет того, что могло поместиться в их рюкзаки, да и вообще, сколько килограммов и бутылок могли унести четверо молодых людей, суд раза в четыре сократил объемы похищенного. Как потом выкручивались директора магазинов — не знаю. Вообще из тюрьмы советская жизнь выглядела совсем иначе, чем из официальной информации, но я, конечно, в эти месяцы больше читал, чем писал жалобы соседям.
В тюрьме, естественно, и писатели и книги воспринимаются совсем иначе, чем на воле. Скажем, талантливые ранние рассказы Алексея Толстого оскорбительно поражают своей поверхностью и легкомыслием, которые раньше не были так заметны. Зато отчетливо всплывшее в памяти «Приглашение на казнь» Набокова — писателя мной не любимого, по-моему очень холодного, рассудочного и вообще не русского, внезапно начинает поражать своей основной догадкой (откуда она у него?) о стремлении «сотрудничества» палача с жертвой, попыткой установить близкие дружеские отношения. Я о Набокове вспомнил уже пробыв около полугода в тюрьме, увидев уже несколько следователей, охранников и наседок и почти от каждого, как и в последовавшие долгие годы, слыша одно и то же: