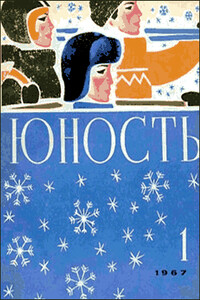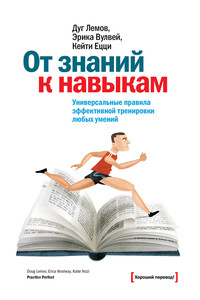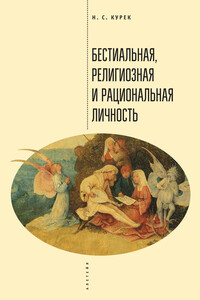Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда | страница 18
После второй мировой войны американские и английские психоаналитики стали подчеркивать целительную роль тесного эмоционального общения между врачом и пациентом, называя его эмпатией и связывая его с отношением матери и ребенка. С этого времени осознание перестает быть основой психоанализа. К этому выводу пришли два французских исследователя: Франсуа Рустан и Октав Маннони. Усомнившись в объективности психоаналитического метода, они утверждают, что как внушение, так и гипноз присутствуют в самом психоанализе. Хотя Рустан и Маннони — известные психоаналитики, большинство их собратьев по профессии не прислушиваются к их доводам, как, впрочем, и к моим. Я попытался понять, почему так происходит. Особенно интересным показался мне случай Лакана. Хотя Лакана часто считают революционером в психоанализе, его позиция в отношении гипноза полностью соответствует традиционным взглядам. Такая позиция предполагает категорический запрет на использование гипноза «как для объяснения симптома, так и для его устранения». Этот запрет кажется тем более странным, что «свободный обмен словами» — к чему сводится лакановское лечение — далеко еще не доказал свою эффективность. Поразительно, что в осуждении гипноза Лакан идет гораздо дальше Фрейда, который, отказавшись от гипноза в своей практике, никогда не переставал искать его объяснения. Тот «возврат к внушению», который наблюдается в настоящее время во Франции, происходит не благодаря психоаналитикам, а благодаря исследователям из других областей знания. Отметим здесь особо две дисциплины. Одна из них — философия. В течение всего XIX века животный магнетизм, а затем гипноз вызывали интерес известных философов. Достаточно назвать Гегеля и Шопенгауэра в Германии, Мэн де Бирана и Бергсона во Франции. Правда, после смерти Шарко во Франции начался период упадка гипноза, который перестал быть предметом философских размышлений. Однако с начала 80-х годов гипноз вновь оказался в центре внимания ученых, которые, опираясь на самое тщательное критическое изучение текстов Фрейда, пришли в выводу, что существенного различия между трансфером и гипнозом нет. Проводятся исследования и в совсем другой области знания — этологии.
Новый свет на эту проблему может пролить сопоставление гипноза и феномена «привязанности» в работах Боулби. В обоих случаях речь идет о биоаффективной связи, отличной от сексуальности.
Таков в самых общих чертах путь исследования, намеченный в данной книге. Вряд ли нужно добавлять, что наши исследования не закончились в 1984 году — в тот момент, на котором они обрываются в книге, — что с тех пор наши позиции непрестанно расширялись и укреплялись. Гипноз во Франции стал предметом междисциплинарных исследований, о чем свидетельствуют прежде всего семинар по гипнозу под нашим с Изабель Стенгерс совместным руководством в Доме наук о человеке в Париже, а также посвященный гипнозу симпозиум, проведенный в сентябре 1989 года в Серизи-ла-Салль. Гипнотический феномен — эта неоспоримая реальность и образец всякого межличностного отношения — все еще недоступен пониманию. Он порождает увлекательную, но весьма сложную эпистемологическую проблему, суть которой изложена в книге, недавно опубликованной мною в соавторстве с Изабель Стенгерс под названием «Сердце и разум». Быть может, решение проблемы гипноза придет не скоро. Однако, учитывая значение проблемы отношений между духом и телом, известной со времен античности, необходимо приложить все усилия для ее решения.