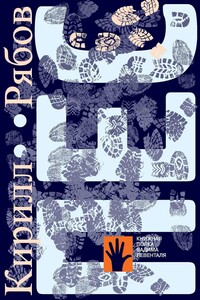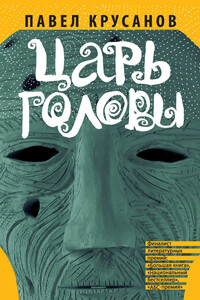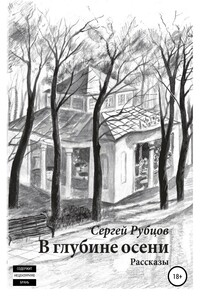Яснослышащий | страница 60
Потом, уже в одиночестве, я часто ходил на Воронец-озеро, пятная кроссовки сочными кляксами сбитой черники, и слушал его музыку, возможно – отзвуки древних излияний магмы, которые в дремучие эпохи породили Балтийский щит, а может, аккорды содрогания земли, случившегося здесь всего четыреста неполных лет назад. Настраивался, ловил внутренней лакуной-резонатором неслышимые звуки и соображал. Картина понемногу складывалась. Примерно так: ультразвуковые колебания, которые лежат за пределом человеческого слуха, но оглашают мир дельфина и нетопыря – это те октавы ве́щей музыки, которые несут ответственность за пребывание тех или иных предметов в мире. За наличие в нём уже пригодных к опознанию форм. Не то чтобы неслышный уху музыкальный образ, подобно мгновенно действующему 3D-принтеру, отливал из предвечной пустоты буфет, табурет или другую полезную штуку, нет – речь об уникальности каждого конкретного подтверждения существования уже существующего.
Далее – музыка в диапазоне звуков, доступных, а стало быть, и напрямую предназначенных человеку. Музыка, которая предъявлена нам в виде улыбки Чеширского Кота, в то время как сам кот находится уже за границами восприятия. Музыка, обращённая нами в ficta… Впрочем, в своё время о ней уже было подробно рассказано в программе «Парашют». Печальная история, имевшая печальные последствия. Повторять нет нужды. Довольно помянуть слова Стравинского, который, дело понимая, говорил, что музыка дана нам для того единственно, чтобы внести порядок в сущее, и прежде прочего – в отношения человека со временем.
Следом – инфрамузыка. Совсем другой компот. Царство её звуков тоже расположено за гранью слышимого, но, так сказать, с противоположного от зоны ультразвука края мнимого безмолвия. Инфрамузыка отвечает за состояние, за формирование, за процесс, за пластические метаморфозы материи и конфигурации её многосложных структур. Более того, неслышимая, она подспудно, через внутреннюю лакуну-резонатор (если этот резонатор не деформирован и хорошо настроен) распознаётся нами и даёт нам представление о том, о чём мы не могли бы узнать никак иначе. Вот, к примеру: известно – вещи можно видеть, но не мыслить, в то время как идеи мыслятся, оставаясь незримыми. Но если речь идёт об отваге, соразмерности, справедливости, благе, единстве целого или же о красоте как таковой – разве возможно помыслить небесный эталон этих вещей как нечто наглядное? Ведь справедливость – не амфора, в случае которой всегда можно обратиться если не к образу совершенной сущности, то к образцу, который был выставлен на афинской Агоре как принятый стандарт в палате мер и весов, и отвага – не сапог, который, чем меньше жмёт и натирает, тем ближе к своему эйдосу. В случае блага и красоты как таковой картинка может только ввести в заблуждение – оптика тут бессильна. Стало быть, исходным оригиналом, идеей этих вещей, как и единства целого, призвано служить потустороннее созвучие, эхо которого иной раз отзывается и в здешней музыке. И ничто кроме него.