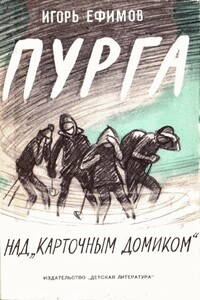Статьи разных лет и список журнальных публикаций | страница 48
Впечатление от стихов Лосева чем-то похоже на впечатление, с которым выходишь из эрмитажного зала малых голландцев. Но его пейзажи и натюрморты лишены какой бы то ни было роскоши и красочного блеска. Вот начало стихотворения “Натюрморт”, заполняющего прямоугольную рамку: “Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый”.
Однако это пристрастие к зримым образам ничуть не приближало меня к раскрытию тайны поэзии Льва Лосева. Я должен был прочесть эти стихи много раз — как издатель, как наборщик, как корректор, но “жизненная драма”, содержавшаяся в них, оставалась для меня такой же “таинственной”, как и при первом прочтении. Впоследствии мне довелось прочесть много критических откликов на лосевские сборники, сделанных его собратьями по цеху — другими поэтами, и некоторые “разгадки” показались мне заслуживающими внимания. Приведу здесь те, что сохранились в моем архиве.
Алексей Татаринов(Бахыт Кенжеев):
“Спокойствие поэта Лосева — лишь одна из нот его нервной, дисгармоничной, мятущейся книги. На ее протяжении он преодолевает позднее ученичество стихов “об искусстве“… преодолевает соблазны модернистской расхристанности и чрезмерной очевидности… Результат — в лучших стихотворениях “Чудесного десанта”— блестящий сплав лирики и сарказма, душевная и творческая зрелость”.[27]
Михаил Айзенберг:
“Как профессионал-филолог Лосев понимает, что нельзя придумать новую поэзию, но можно создать нового автора: можно изменить речевое поведение… Ослышки и каламбуры, контаминации, полуанекдотические детали заведомо не претендуют на высокие значения… Многие его вещи можно принять за пародию на те стихи, которые мог бы писать Лосев, если бы не был так образован и так склонен к рефлексии”.[28]
Сергей Гандлевский:
“Чрезвычайно эластичные голосовые связки, ненарочитость манеры позволяют Лосеву без натуги говорить “о добре и зле. О нравственности. О природе знака“. Или солоно шутить, не впадая в гаерство… Лосев пишет на диковинном реликтовом наречии советского социального отщепенства, когда в разговоре уживаются ученость с казармой, метафизические раздумья со злобой дня, мировая скорбь с каламбуром… Этим языком Лев Лосев владеет в совершенстве…”[29]
Дмитрий Быков:
“Лосев — поэт по преимуществу теплый, но настолько ущемленный и травмированный, настолько подавленный миром, в котором ему приходилось жить-выживать (он и писать-то смог, только покинув этот мир и переселившись в более комфортную среду), что эмоция прорывается в его тексты чрезвычайно редко. Там, где у Бродского в ледяной пустоте витийствует лирический герой, как раз очень даже полнокровный, живой и осязаемый, — там у Лосева в ледяной твердыне мира образуется спасительная лакуна пустоты; эта-то пустота и есть авторское “я“, со всех сторон стиснутое чужой плотью. Где герой Бродского упраздняет мир — герой Лосева упраздняет себя. Боль у Лосева слишком сильная, чтобы можно было даже помыслить о словесном ее оформлении, боль хроническая, прорывающаяся не в смысле слов, а в звуке”.