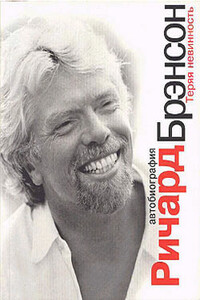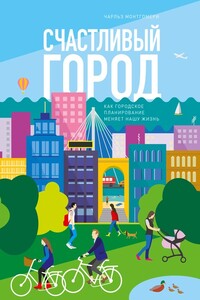Сверху вниз: почему не умирают иерархии, и как руководить ими более эффективно | страница 35
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ИЕРАРХИИ В НАШИХ ГОЛОВАХ?
Некоторые читатели могут остаться равнодушными к доводам в пользу эффективности. Другим эти доводы могут напомнить навязчивых «рационализаторов» из далекого прошлого. Но на самом-то деле все мы являемся такими рационализаторами. Когда мы играем в крестики-нолики в первый раз, это интересно, по крайней мере, в течение нескольких раундов, пока мы не запрограммируем игру у себя в голове. Тогда игра становится довольно скучной. И, несмотря на это, большинство из нас не может удержаться, чтобы не запрограммировать ее. Точно так же мы не можем удержаться, чтобы не программировать и другие, изначально плохо структурированные проблемы.
Мы, люди, не просто эмоциональные, чувствующие существа. Мы также способны мыслить. Но большинство наших жалоб на человеческие иерархии посвящены тем ужасным вещам, которые они совершают по отношению к нашим чувствам. Они расстраивают, сердят и унижают нас. Они несправедливо обращаются с нами, надоедают нам и помыкают нами.
Однако на когнитивном — интеллектуальном — уровне иерархии приносят больше пользы, чем вреда. Наша мыслящая сторона должна очень положительно относиться к иерархиям, потому что мы выбираем их почти автоматически. Почему? Потому что они являются разумными инструментами для упрощения сложных проблем.
Некоторые положительные стороны иерархического мышления были кратко изложены в следующей простой притче, однажды рассказанной лауреатом Нобелевской премии Гербертом Саймоном:
Жили-были два часовых дел мастера по имени Хора и Темпус, которые изготавливали прекрасные часы. Оба они пользовались огромным уважением, и телефоны в их мастерских трезвонили постоянно — им всё время звонили новые клиенты. Однако Хора процветал, а Темпус становился всё беднее и беднее и, в конце концов, лишился своей мастерской. В чем же причина?
Часы, которые делали оба мастера, состояли примерно из 1000 деталей. Темпус изготавливал свои таким образом, что если одна пара была частично собрана, и ему приходилось отложить ее — например, чтобы ответить на звонок она тут же рассыпалась на части, и её нужно было собирать сначала. Чем больше клиентам нравились его часы, тем чаще они звонили, и тем труднее было ему найти спокойное время, чтобы без помех собрать каждую пару часов.
Часы, которые изготавливал Хора, имели не менее сложные механизмы, чем у Темпуса. Но он спроектировал их таким образом, что мог собирать отдельные узлы, состоящие примерно из десяти элементов каждый. Десять таких узлов можно было затем объединить в больший узел, а система, состоящая из десяти таких больших узлов, представляла собой законченные часы. Таким образом, когда Хора был вынужден отложить незаконченную пару часов, чтобы ответить на телефонный звонок, он терял лишь небольшую часть своей работы, и у него уходило значительно меньше времени на сборку каждой пары часов, чем у Темпуса.