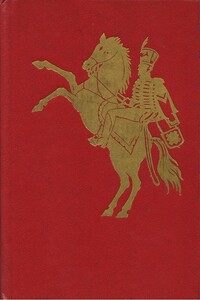Христос остановился в Эболи | страница 36
Донна Катерина, по желанию дяди, перевела разговор на меня, на мою профессию медика. Напрасно я старался убедить ее, что я хотел бы быть только художником, — она меня не слушала. И доктор своим заплетающимся, как обычно, языком посоветовал мне, чтобы я, во всяком случае, если буду посещать больных, не увлекался дурно понимаемой здесь щедростью и добросердечием, потому что все только и думают, как бы не заплатить, хотя государственная такса обязательна и ее надо соблюдать из профессиональной солидарности, из-за приличий, которыми нельзя пренебрегать, и тому подобное. Старый врач только пассивно принадлежал к партии своих племянников и только как родственник разделял их страсти. Он был «слишком добр», как говорили донна Катерина и дон Луиджино. Старый ниттианец, он даже иногда в частной беседе осуждал фашистские взгляды подесты и порицал в нем бахвальство, стремление властвовать, методы полицейского, но, в конце концов, примирялся с ними из любви к спокойствию, а также потому, что извлекал из этого выгоду. Он бы согласился под давлением племянников, а, может быть, и из-за интересов дочерей не ставить мне палок в колеса; но он боялся, что на него будут смотреть как на старика, с которым не считаются и которым можно вертеть как угодно. Он держался с достоинством и был щепетилен. Поэтому мне пришлось покорно выслушивать его длиннейшие запутанные объяснения и кучу отеческих своекорыстных советов. Я должен заставить крестьян платить, придерживаясь таксы, не верить их болтовне, потому что все они лжецы и невежды и чем больше делаешь им благодеяний, тем они не благодарнее. Они не умеют ценить благодеяний. Он прожил в поселке более сорока лет, лечил их всех, благодетельствовал им всеми способами, а они платили ему тем, что называли его ни на что не годным и выжившим из ума. Но он вовсе не выжил из ума. Ему больно видеть неблагодарность крестьян. И их суеверия. И их упрямство. И так далее и тому подобное.
Когда я наконец смог освободиться от старческого лепета доктора, от восторженных воплей его дочерей, от хрюканья дона Паскуале, от многозначительных улыбок донны Катерины, были уже сумерки. Крестьяне поднимались по улицам со своим скотом и шли к домам, как каждый вечер, с монотонностью морского прилива, в свой особый темный, таинственный мир, мир без надежды. Других, господ, я теперь слишком хорошо знал и с отвращением чувствовал липкое прикосновение бессмысленной паутины их повседневной жизни, пыльный, лишенный таинственности узел интересов, презренных страстишек, скуки, жадного бессилия и нищеты. Сегодня, как завтра, как всегда, проходя по единственной улице поселка, я должен был снова увидеть их на площади, без конца слушать их озлобленные жалобы. Что мне делать здесь?