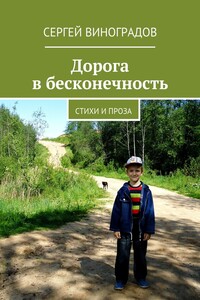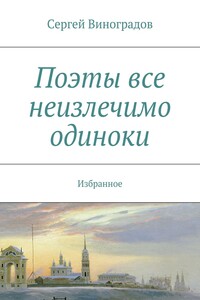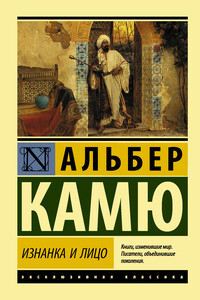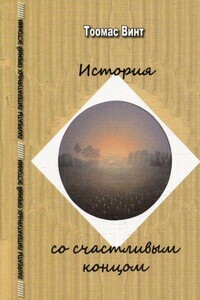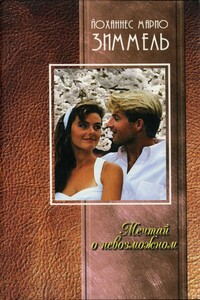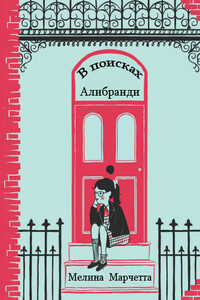Красное и белое | страница 38
Забыв начисто в крестьянском вопросе ленинскую формулу «социализм есть строй цивилизованных кооператоров», сталинисты насадили свой административно-колхозный строй. Так деревня умерла окончательно. Реанимация её, предпринимаемая новым поколением партаппаратчиков, это фикция, ибо, говоря на словах о том, что надо дать крестьянину землю в вечное пользование с правом наследования, на деле они упрямо руководствуются лозунгом Егора Лигачёва: «Колхозный строй — лучший в мире!». И пока мы решительно не откажемся от этой догмы, деревня всё больше будет приходить в запустение. А разразившийся нынче кое-где хлебный кризис, при богатейшем урожае зерновых, лишь предвестник грядущих ещё более серьёзных проблем.
Часть третья
Теперь немного о тех, кто пришёл руководить разорённым государством на смену царским чиновникам, ведь не зря говорят в народе: каков поп, таков и приход. Типичного представителя новых слоёв «руководителей», весьма образно изобразил Михаил Булгаков в своём «Собачьем сердце». И этот типичный образец даже не Швондер, а фигура даже более страшная в своём тупом революционизме — Полиграф Полиграфович Шариков. В реальной действительности было значительнее хуже и страшнее. Вот как описывает в своих записках становление новой рабочее-крестьянской власти левый меньшевик Д. Данилин: «Откуда-то появились новые люди, многие из них с подозрительным прошлым, часто во главе „красных отрядов“, пулемёты решали всё, были случаи, когда умалишённые делались начальством. Расстрелы — редко по суду, большей частью по воле местного начальства, приобрели зловещие размеры». Можно, конечно, и не верить Данилину, который, естественно, от советской власти был не в восторге, так как сам оказался этой власти лишённым, но логика происходивших в этот период событий, почему-то подсказывает — это правда.
Вот так рождалась новая советская, а точнее партийно-советская номенклатура. Вот так закладывался фундамент существующей и по сей день административно-командной системы, рядящейся сегодня в одежды псевдодемократии, а, возможно и будущего вскоре президентского режима правления. Гражданская война двадцатых годов лишь подчеркнула всю опасность узурпации власти частью наиболее фанатичной люмпен-интеллигенции в союзе с люмпен-пролетариатом и люмпен-крестьянством. Полностью сбылись предупреждения видного теоретика анархизма М.А.Бакунина в его полемике с К. Марксом ещё в 60-х годах ХIХ века о том, что диктатура пролетариата на деле окажется властью «кучки привилегированных, избранных или даже неизбранных». Возможно, меня упрекнут, нашёл, мол, авторитета в лице какого-то анархиста. Хорошо, тогда давайте посмотрим документы РКП (б). В них тоже можно найти немало прелюбопытного. Например, на Пленуме ЦК РКП (б) весной 1921 года Л.Б.Красин, один из ближайших соратников Ленина, так охарактеризовал роль партии в государственном обустройстве: «Наша партия на десять процентов состоит из доктринёров-идеалистов и на девяносто процентов из карьеристов, мечтающих занять место «царской челяди». Годом позже другой большевик Г.Я.Сокольников говорил: «Кажется всё превратилось в бестолковую канцелярию, в которой всё происходит не для дела, а только для угождения отдельным лицам от которых зависят дальнейшие пайки, суточные, добавочные и тому подобное».