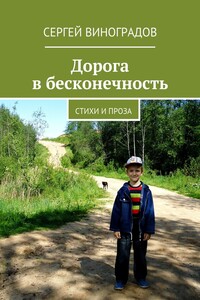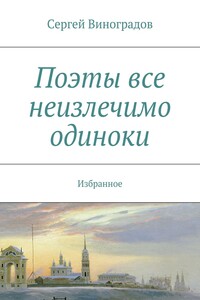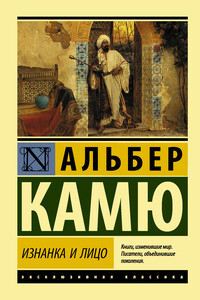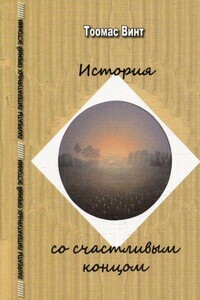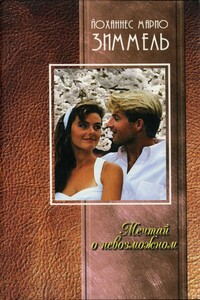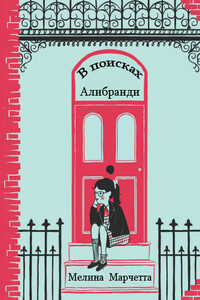Красное и белое | страница 37
Экспроприация и национализация — главные рычаги, которые применяли большевики в первые месяцы своего правления. В итоге, государственная собственность переродилась, на словах, в общенародную, а на деле — в ничью. Собственность — это власть. Номинально власть оказалась в руках народа, фактически же в руках партийной и советской бюрократии. Вот почему, несмотря на принятый Закон «О собственности в СССР» и широко декларированные принципы её приватизации, передача собственности в пользование трудовых коллективов, арендаторов, а, тем более, в частное владение, встречает мощный отпор вполне определённых сил: тех, кто до недавнего времени использовал ничейную собственность как власть. И пока эта власть не будет вырвана из их рук, данный закон останется не более, чем бумажкой.
Второй жизненно важный вопрос, который решает любая социальная революция — вопрос о земле. Только обещание крестьянину собственного земельного надела смогло сделать его союзником пролетариата. Декретом «О земле» в октябре 1917 года советская власть дала крестьянину этот самый клочок собственной земли. Но, встав на смертный бой с любым частником, партия большевиков не смогла смириться с частнособственническими интересами своего главного союзника. С первых дней октябрьского переворота власть придержащие в борьбе с различного рода оппозиционными настроениями внутри собственной партии вовсе не думали о том, как накормить народ, а решали свои честолюбивые политические ребусы.
Гражданская война тоже способствовала камуфляжу откровенной войны города с деревней. Именно эта война, а не противостояние между так называемыми «белыми» и «красными» есть главная причина кровопролития 1918—1921 годов. Выдвинутая Лениным в этот период теория «военного коммунизма» также стала хорошим прикрытием начавшегося разорения российской деревни. Ещё за три года до Октябрьской революции мелкотоварная крестьянская Россия кормила не только огромную империю, но и всю Европу. Теперь же продотряды, направленные в деревни, изымали хлеб, не давая крестьянам даже шанса выжить. Голод своей костлявой рукой задушил русскую деревню.
Классовая борьба пролетариата с буржуазией переросла в борьбу с крестьянством, которому в поисках защиты не оставалось ничего другого как влиться в ряды белого движения, чтобы таким образом отстоять свои «частнособственнические» интересы. Красный террор поставил в ряды непримиримых врагов Советов многих из тех, кто сам люто ненавидел бывшие царские порядки. Одним из них был Нестор Махно, о полководческих способностях которого с похвалой отзывался Ленин. Но усилиями Троцкого и других «героев» гражданской войны крестьянское движение было окрещено «махновщиной», а трагедия в Новороссийске, где бывшие «махновцы», в основном крестьяне, были физически уничтожены тысячами, наглядно показала всё лицемерие союза пролетариата и крестьянства. В итоге оно было полностью подорвано, как класс, способный противостоять гегемонистским устремлениям большевистских лидеров. Террор и голод низвели крестьян на положение, существовавшее в России до 1861 года. Новое крепостное право в первом социалистическом государстве стало именоваться колхозами, а члены этих коллективных хозяйств долгое время не имели даже паспортов, как прочие советские граждане.