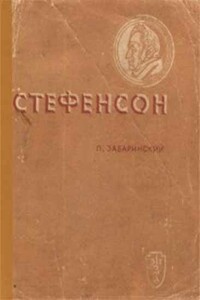Воспоминания | страница 47
А фигура Отца по–прежнему оставалась для меня таинственной, загадочной, совершенно непостижимой для сыновьего заинтересованного и ревностного исследования. Терро Инкогнито какое–то. Лишь масштабы ее все увеличивались, отодвигаясь во времени. Но что–то раскрывалось…
Его любили. Его внутреннее спокойствие и духовная мощь притягивали людей талантливых, сильных и чистых. В отце было нечто от молчаливого пророка. Безмятежным взглядом чуть прикрытых тяжелыми веками ясных огромных глаз — то темных до черноты, то светлых сияюще — Отец подзывал или останавливал, удалял от себя или привязывал намертво и навсегда. Ни во что, вроде, не вмешиваясь за пределами интересов его внутреннего мира, никогда не позволял он себе проявить назойливо–беспокойный интерес к волновавшим людей событиям. Он дома, когда за ужином собирались все мы, — дети, мама Бабушка Розалия, — изредка раскрывался вдруг и всегда неожиданно отвечал тихо на не заданный ему никем, но уловленный прежде молчаливый вопрос; или давал краткий совет, — казалось всегда, — не относящийся к разговору за столом; или делал оценку — во времени — происходящего сегодня. Всегда — рано или поздно — оценка его оказывалась абсолютно точной, совет — оптимальным, ответ — единственно правильным. Он был в моем тогдашнем понимании классическим хахамом своего народа. И как мудрец, чувствовал время, видел ясно те самые невидимые «неисповедимые пути Господни», что словно телефонные кабели на кроссах опутывали, связывая, события быстротечной жизни и еще более быстротечного времени.
Он чувствовал Историю. Историю, которая независимо от Времени была для него всегда и постоянно современной и абсолютна живой. Потому, быть может, что первой Его особенностью была Память. Память не просто феноменальная, — этот эпитет ничего про Него не говорит: под феноменальной понимается исключительная и, безусловно, универсальная память, когда обладающий ею человек, в идеале, запоминает абсолютно все, и что ему необходимо извлекает тотчас из этой своей информационной системы. Таких людей — память такую — я встречал. Не часто, правда.
Качественно память Отца была иной: абсолютная и исключительная в принципе, она была… современна, что ли, всем заложенным в нее глазами и мыслями бесчисленных поколений предков Его историческим или Ему самому памятным событиям и впечатлениям. Этот феномен назван… Машиной Времени…
Здесь начиналась чертовщина.
Когда Отец передавал подробности начисто забытых людьми и даже Книгой библейских эпизодов или толкований, пришедших к Нему изо всех источников эстафеты генетической памяти живших до него — всех, как мне представляется — от Адама /а это было именно так и только так, потому что ни коим образом не могло быть иначе/, или вспоминал известные исторические события когда–то происходившие, эпизоды «из жизни», разговоры или реплики, кем–то ведшиеся или высказанные, — слушатели ловили себя на состоянии абсолютной уверенности в том, что рассказчик говорит о событиях, свидетелем или участником которых был Он сам… Это бы еще ничего, — слушателям начинало мерещиться, что и они непостижимым образом оказывались… там, с рассказчиком… вместе. Такая уверенность была не результатом искусства повествователя /будет правильным отметить искусство Отца рассказывать/, но осязаемой, как бы голографической реалией точно увиденного и ощутимого Им самим… Реалии эти, сам дух Отцовского феномена довольно точно ощутил я при чтении монолога–рассказа… Воланда о своих беседах с Эммануилом Кантом, о впечатлениях и чувствах своих на допросах Нищего Проповедника всадником Понтием Пилатом, лично ему, Воланду, знакомых… Довольно точно осязаемо все это, но не настолько, чтобы «разъяснить» Отцовский феномен. Рассказчик–то у Булгакова — сам Сатана. И все проще простого разъясняется дьявольщиной… самой «обыкновенной»…