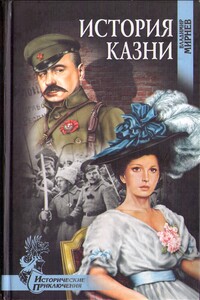На маленькой планете | страница 40
— Не надо на тракторе. Угодишь в яму, чего доброго, загубишь машину. Лошадь в наш век надежней.
Николай запахнул полушубок и, торопливо оглянувшись на Денисова, заспешил из домика.
Пряхин услышал, как в сенях Саворин споткнулся о сугроб и выругался. Потом все стихло, и только ветер свистел в трубе да где-то наверху, видимо на чердаке, поскрипывали, жалуясь на непогоду, обтрухлявевшие доски.
Он задумчиво глядел на дотлевшую в печи солому, уже достаточно согревшись подле огня, представляя, как Николай бредет, утопая в снегу, проклиная буран, снег и, наверное, самого себя, дерзнувшего выйти в такую круговерть из дому, усмехнулся, вспомнив, какое было испуганное лицо у Саворина, когда предложил ему остаться здесь с Денисовым, нащупал в углу небольшую охапку соломы и оглянулся, как бы соображая, что же еще придется жечь, если выйдет вся солома. Чурочка, на которой сидел, и несколько щепок — вот и все, что имелось. Потом подошел к окну. Ветер задувал прямо в окно, и стекла, кое-где треснутые и заклеенные бумагой, дрожали, и если прислушаться, слышна была их мелкая, стеклянная мелодия.
Пряхин стоял у окна, пока в печи совсем не погасло.
«Вот поднялся этот буран», — вяло думалось ему, и он, прислонившись лбом к стеклу, всматривался в густую, снежную темноту за окном.
Однажды в такую же непогоду, когда Пряхин, уставший и накурившийся, медленно брел по улице, запахнувшись в полушубок, из колхозного правления, где решили снять Денисова с бригадирской должности, неожиданно встретил Михаила Денисова. Михаил направился рядом, не решаясь спросить о решении правления и, торопливо затягиваясь, курил.
— Что тебе? — спросил устало Пряхин.
— Так я же, Андрей, невиноватый. Я трактор не топил, Николюкин сам взрослый, а ты против меня…
— А я не против тебя, то есть. Мне, то есть, до тебя никакого дела нету. Я против безалаберного отношения к колхозному добру. Вот, то есть, я против чего.
Он на правлении выступал как раз в защиту Денисова и то, что Денисов, не зная, видимо, о чем на заседании шла речь и кто его защищал, а кто ругал, решился схитрить, пытаясь вызвать Пряхина на откровенность, возмутило его.
— Нет, ты против меня выступил, — насупленно повторял Денисов. — А я знаю почему. Мстишь — вот главное. Маруська причина.
Пряхин не ответил, молча направился домой, не сказав даже «до свидания». Он к тому времени уже все позабыл и если и любил кого, то не Маруську, а свою последнюю жену, умершую от родов, и после этого несчастья на многое смотрел спокойнее, мудрее, прощал людям слабости, считая, что каждый человек в отведенное ему природой время должен прожить по крайней мере честно. «И вот он, Денисов, вот он… Остался у меня в памяти как живой, таким, каким я его помню. Умер он для себя, для меня же живет, живет во мне, пока я жив». И получалось, что человек не может жить сам по себе, только для себя, а живет не только в себе, но и во всех людях, с которыми сталкивается за свою жизнь, живет, даже если умрет, и живет до тех пор, пока жив хоть один, кто помнит его. Так и идет цепочка жизни по земле через все поколения, через тысячелетия, и если не нарушить эту связь, эту цепочку, то каждый человек хранит в себе все от первого человека на земле до последнего, то есть до самого себя. Пряхин даже вспотел от этой мысли, и ему показалось, что он неожиданно будто приподнялся над будничными, обычными своими суетливыми мыслями и делами, и в самом себе почувствовал нечто большее, чем ощущал до сего дня.