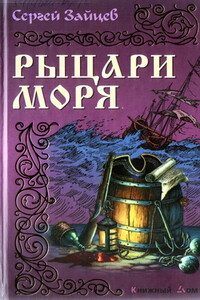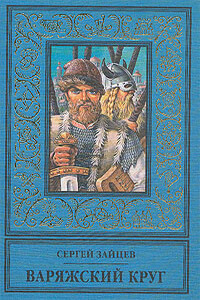Тур — воин вереска | страница 37
Вот капитан поднялся, вот он зачитал свой приказ — ровным бесстрастным голосом. Мародёры охнули, услышав, что с ними тут не шутки шутят и не комедии ставят, и, сообразив, что пощады не будет, вполне чистосердечно опечалились... Вот двое солдат, как уж, видно, у них было заведено, поставили свои подписи возле подписи офицера. И капитан, аккуратно вложив лист приказа в Библию, негромко бросил солдатам:
— Gör vad du maste...[25]
Офицер и солдаты, занятые приведением приговора в исполнение, не видели, что у действа, какое они при дороге развернули, есть зритель. Лишь один из приговорённых, уже поставленных на козлы, увидел мальчишку в лесу, скрывающегося с лошадкой своей в молодом ельнике, и хотел мародёр офицеру что-то сказать и уж указывал глазами на ельник, как ударили ногами по козлам двое дюжих солдат, и захлестнулись жестокие неумолимые петли, впились в кожу, безжалостно сдавливая, сминая, ломая хрящи в горле, и дрогнула под тяжестью дубовая ветвь, затрепетали листочки. И увидел гот приговорённый и уж казнённый, что был у его беды, у свершённого возмездия ещё и другой зритель — Всевидящий, Всемогущий, Всемилосердный, Всесправедливый, Всесветлый, который, нет, не остановил пишущую приказ десницу капитана Оберга... Господь Бог в небесах.
Бремя тяжких испытаний
Мы не можем тут сказать простого — что одна армия, русская, ушла, а другая армия, шведская, ещё не причту шла. С одной стороны, вроде бы так оно и было; но с другой стороны, продолжались стычки тут и там — при дороге, в полях, в лесах, в селениях; сновали через повет небольшие отряды, устраивали засады, встречались, сшибались — то схватывались насмерть, щедро проливая кровь и ломая кости, то уходили один от другого, сотрясая землю в безумных погонях. То и дело слышны были крики и звон сабель и ружейная трескотня, и вдруг заглушались они грохотом пушек. А потом наступала тишина, хотя и кратковременная. И всё начиналось вновь: крики, звон сабель, выстрелы, пушечные громы — уж при другой дороге, при другой переправе или засеке, в другом горящем углу.
То шведские отряды скакали, видели их на шляху, то отряды казаков и калмыков пролетали как ветер; вроде, узнавали и поляков. В местах стычек — кровь на траве, а ещё более — в земле. Глянешь — не увидишь; а наступишь — так кровь и поднимется, и на глазах становится земля как кровавая каша. Тут же — наспех погребённые трупы; неглубоко — на два, на три штыка. Свежие холмики. Из одного рука торчит, там проглядывает нога. А в иных местах и вовсе не погребённые — страшные, лежащие по нескольку дней и более, вздутые, облепленные мухами, обобранные крестьянами (не пропадать же добру!). Не редкость были и тела, обглоданные зверьми, с выеденными печёнками-кишками, белеющие костьми. Там, где были очи ясные, отражающие свет души и некогда на мир взирающие с восторгом, деловито копошились во множестве жужелицы, а где билось горячее сердце, где трепетало оно в радости и плакало, останавливалось в горестях, где оно чутко слышало мать и отца и где лелеяло любовь, — теперь вили себе гнёзда подлые мрачные аспиды...