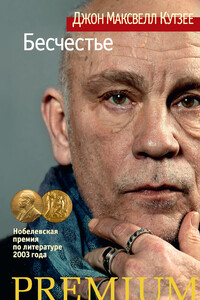Бледный огонь | страница 61
Он не осмелился нажать кнопку фонарика, пока не углубился как следует; он не мог также позволить себе шумно оступиться и потому преодолел восемнадцать незримых ступеней в более или менее сидячем положении, как робкий новичок, сползающий на заду по поросшим лишайником скалам горы Крон. Тусклый свет, который он наконец выпустил на волю, был теперь его драгоценнейшим спутником, Олеговым духом, призраком свободы. Он испытывал смесь тревоги и ликования, как бы радость любви, подобную которой он в последний раз испытал в день своей коронации, когда по дороге к трону несколько тактов невероятно богатой, глубокой, полнозвучной музыки (авторство и физический источник которой ему никогда не удалось установить) поразили его слух, и он вдохнул головную помаду хорошенького пажа, который наклонился, чтобы смахнуть розовый лепесток со скамеечки под его ногами; и при свете своего фонарика король увидел, что он безобразно наряжен во все красное.
Тайный ход сделался, казалось, еще более убогим. Вторжение окружающей среды было еще заметнее, чем в тот день, когда два мальчика, дрожавшие в тонких фуфайках и шортах, его исследовали. Лужа стоячей воды с опаловым отливом стала длиннее, по ее краю шла больная летучая мышь, как калека со сломанным зонтиком. Запомнившаяся россыпь цветного песка хранила тридцатилетний отпечаток узорной подошвы Олегова башмака, столь же бессмертный, как след ручной газели египетского ребенка, оставленный тридцать столетий назад на голубых нильских кирпичах, сохнувших на солнце. А в том месте, где проход шел сквозь фундамент музея, каким-то образом спустилась вниз на изгнание и уничтожение безголовая статуя Меркурия, проводника душ в преисподнюю, и треснувший кратер с двумя черными фигурами, играющими в кости под черной пальмой.
Последнее колено туннеля, завершившееся зеленой дверью, содержало нагромождение разрозненных досок, перебираясь через которые беглец не раз споткнулся; он отпер дверь и, открыв ее, был остановлен тяжелой черной портьерой. Пока он нащупывал проход среди ее вертикальных складок, слабый луч его фонарика закатил свой базнадежный глаз и потух. Он выпустил его из рук — фонарик упал в приглушенную пустоту. Король запустил обе руки в глубокие складки пахнущей шоколадом ткани и, несмотря на неверность и опасность момента, собственное его движение как бы физически пробудило воспоминание о смешных, сначала контролируемых, а затем переходящих в неистовые волноподобные сотрясения, колебаниях театрального занавеса, сквозь который тщетно пытается пробиться нервный актер. Это гротескное ощущение, в такой дьявольский миг, разрешило тайну прохода до того еще, как он выпростался наконец из портьеры в тускло освещенную, тускло заваленную lumbarkamer, служившую некогда уборной Ирис Ахт в Королевском театре. Она все еще оставалась той же, какой стала после ее смерти: пыльной дырой, выходившей в какое-то зальце, куда иной раз забредали актеры во время репетиций. Прислоненные к стене куски мифологической декорации наполовину скрывали большую пыльную в бархатной раме фотографию Тургуса — густые усы, пенсне, медали, — каким он был в те времена, когда этот коридор в милю длиной служил ему необычайным путем для свиданий с Ирис.