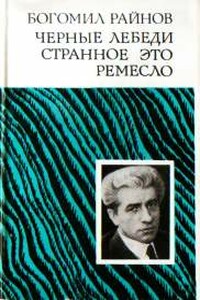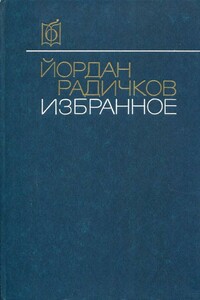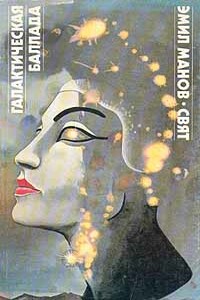Избранное | страница 25
— Помогите-ка ему вспомнить, — сказал следователь.
Теперь он уже не улыбался. Перстень его подскакивал на темном лаке письменного стола.
Меня вывели из кабинета и поволокли по лестнице вниз.
Значит, это она, Ануша!
Покуда я мог двигаться, я ходил по камере взад-вперед, словно зверь в клетке. Семь шагов от окна до дверей и семь обратно. Я нарочно ходил мелкими шажками, чтобы не кружилась голова от частых поворотов.
Потом ступни у меня распухли. Когда меня водили на допрос, я ступал как по раскаленным иглам, а в камере часами сидел на голом полу, опершись о стену. Так я и спал. Если я пытался прилечь, болело все тело, и эта боль не давала уснуть.
Когда я сидел — в перерыве между двумя допросами, — мысли мои постоянно возвращались к Ануше. Так прошло несколько дней. Больше очных ставок не было — ни с ней, ни с другими. Это означало, что парни из нашей пятерки не были схвачены. Это означало, что меня предала она, Ануша. Да и как бы вынесла пытки эта хрупкая девушка, те пытки, которые заставляли меня кричать, терять человеческий облик!
Любовь моя как-то перегорела в эти страшные дни и ночи, перегорела и рассыпалась в пыль. Презирать Анушу не было сил, но не было сил и оправдывать ее. Душевная боль была куда тяжелее телесной. Не знаю, испытывали ли вы когда-либо такую боль души, знаете ли, как в ней одна за другой открываются раны и как медленно они заживают, такие раны, сколько времени пройдет, пока все они затянутся твердым, холодным рубцом…
Я не сомневался, что выдала меня Ануша. Хотя ей было известно обо мне только то, что я студент, и знала она лишь мою подпольную кличку, но стоит человеку уверовать во что-нибудь, и он всегда найдет довольно причин и оснований для такой уверенности. Отыскал их и я.
Однажды, это произошло на третий или четвертый день моего заключения, я сидел в углу под окном и жевал куски холодной картофелины. Жевал медленно, закрыв глаза. От картошки несло землей и гнилью, и когда я наконец проглатывал, во рту оставалась терпкая горечь. Меня убаюкивала дремота — мне казалось, будто я долго ехал поездом и еще ощущаю покачивание вагона. В полусне чередовались картины прежней жизни: то теплая тишина университетской библиотеки с зелеными абажурами настольных ламп, то садик у ректората, озаренный весенним солнцем, то студенческая демонстрация в день Кирилла и Мефодия… Потом я перенесся на Витошу. Стоял с парнями из нашей пятерки на Копыте и оттуда смотрел на город, тонувший в синеватом утреннем тумане, а Михо показывал куда-то вниз и вздыхал: «Теперь бы туда, растянуться на какой-нибудь полянке…» Но какая полянка в городе? Оттуда доносился приглушенный звон: «Дон-донн, дон-донн» — и этот звон нас раскачивал все сильнее и сильнее, и София внизу раскачивалась вместе с Витошей, и мы, смеясь, кричали, как кричат дети на ярмарочных качелях…