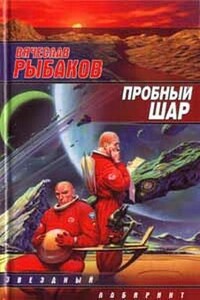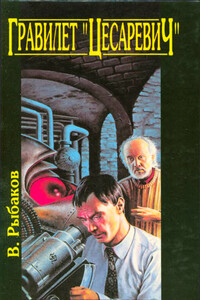Резьба по Идеалу | страница 117
Говоря по совести, любой современный работник, занимаясь своим делом, рад-радёшенек был бы иметь такой спектр мотивов.
Но, с другой стороны, перспектива работать на износ, руководствуясь исключительно подобными соображениями, наверняка привела бы в ужас тех, кто убеждён, что и сам он человек идеальный, просто ему всё время не везёт и всё время мешают бесчисленные плохие парни, и мир, в общем, уже достиг совершенства, просто надо в нём устроиться посытнее и повольготнее.
Нетрудно заметить, что практически все перечисленные выше мотивации цзюньцзы, пусть одна в большей степени, другая в меньшей, но — все, могут быть энергетически запитаны лишь от одного-единственного источника: искреннего желания привести реальный мир в состояние, по возможности близкое к тому состоянию, которое мыслится для мира (в том числе и для себя самого как части этого мира) желательным.
Человек увлечён своей конструктивной деятельностью, в процессе её успешного осуществления он сам делается всё лучше, он ощущает от неё удовлетворение, гордится собой и уважаем другими, если добивается результата. Мотивационный огонь горит в его груди и требует определённого выхода в поведении, а выход этот, в свою очередь, оформлен традиционными стереотипами коллективистского поведения. В принципе это уже само по себе может обеспечить статистическое преобладание социально желательного поведения над социально нежелательным.
Чуть менее века назад знаменитый Сомерсет Моэм в «Падении Эдварда Барнарда» отдавал дань лукавому мудрованию так: «Кто такой Арнольд Джексон — плохой человек, совершающий добрые поступки, или хороший человек, совершающий дурные поступки? …Может быть, на самом деле вовсе и нет такой уж разницы между людьми. Может быть, даже лучшие из нас — грешники и худшие из нас — святые. Кто знает?» Рафинированные европейцы, видимо, уже к тому времени — не говоря уж о нынешнем — начали подзабывать: святой и грешник отличаются не тем, что один никогда не грешит, а другой никогда не совершает ничего доброго. Кардинальная разница в том, что один, порой, конечно же, совершая нечто не одобряемое традиционной (в европейском случае — христианской) системой ценностей, испытывает муки совести, кается и благодаря этому с течением времени грешит всё меньше, а другой, впадая в грех, возбуждённо радуется, испытывая чувство неведомой святошам свободы, и куролесит всё пуще. Праведник и грешник — не численные показатели, а вектора. Не состояния, а процессы.