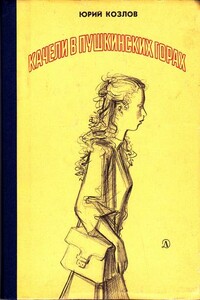Малый круг | страница 116
Стоило только ему представить Липчука — демагога и себялюбца — длинного, гибкого, как удилище, с кретинской, словно у приказчика прошлого века, прической на прямой пробор, но при этом надменного и небрежного, так что прическа имела как бы некий скрытый смысл, вот, мол, плевать на всех вас хотел, — как все восстало в Фоме: «Ну почему опять я? Я, а не он должен заниматься танцами!»
Уж так повелось. В любой компании Липчук неизменно оказывался наиболее значительной, достойной внимания личностью, незримым магнитом. Все почему-то рвались подружиться с ним, разделить его общество. Липчук держался самоуверенно и естественно. Его манера весомо и резко произносить слова, словно подводить черту, закрывать тему, скупые, выверенные жесты, гордо откинутая голова — все внушало мысль, что за его речами скрывается больше, нежели слышится. Липчук был величайшим мистификатором. Даже молчал он иначе, чем, например, Фома. Тот просто молчал, разинув рот. Молчание Липчука, в зависимости от обстоятельств, можно было истолковать как молчание — презрение, молчание — снисхождение, молчание — жалость. Те, кто за глаза ругали Липчука, в его присутствии робели.
— Да как тебе удается? — не выдержал однажды Фома.
— Что именно? — уточнил Липчук, так как удавалось ему многое.
— Да так всех облапошивать.
— Спятил, чудачок, я никого не облапошиваю, — холодно посмотрел на Фому Липчук, и тот растерялся от ударно вбитых в воздух слов.
Дело в том, что произносимые вслух слова имели магическую власть над Фомой: он им верил. То есть потом-то, конечно, Фома разбирался, что ложь, что истина, но в момент разговора сознание отказывалось примириться с фактом, что человек может смотреть в глаза и лгать. Все предшествующие мысли и умозаключения вдруг переставали казаться бесспорными. «Действительно, — растерялся Фома, — какое, собственно, я имею право вот так…»
— Ты неправильно понял, — забормотал он, — я про другое…
Липчук смотрел на него со снисходительным презрением. Фома искренне стыдился своей бестактности. Все было так, но при этом оба знали: Фома прав. Только вот никакого морального удовлетворения, нравственного преимущества Фоме правота не сообщала. Он подумал, что отчего-то всегда прав себе в ущерб, и конца этому не предвидится. Такая странная была у них дружба, не более, впрочем, странная, чем прочие человеческие дружбы.
Посреди школьного двора в смещающейся по асфальту солнечной трапеции разгуливала чайка. Белые ее перья вспыхивали, чайка казалась небольшой жар-птицей. Дерзостным своим видом, необъяснимым, упрямым желанием находиться где не положено она напоминала Фоме его одноклассницу Таню Антонову.