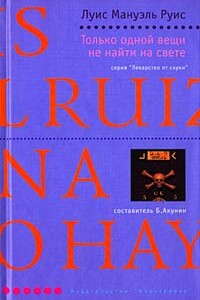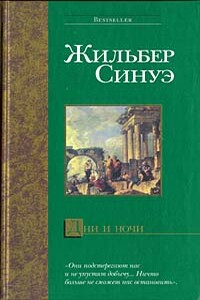Страсти роковые, или Новые приключения графа Соколова | страница 23
У Вас у первого явилась мысль о международном мире, и по инициативе Вашего Величества созван был в Гааге мирный конгресс. Теперь одно Ваше могучее слово — и потоки, реки крови остановят своё ужасное течение.
Ни здесь, в Австрии, ни в Германии нет никакой ненависти против России, против русских: в Пруссии Император, армия, флот сознают храбрость и качества нашей армии, и в этих странах большая партия за мир, за прочный мир с Россией. Теперь всё гибнет: гибнут люди, гибнет богатство страны, гибнет торговля, гибнет благосостояние; а там и страшная жёлтая раса, против неё стена — одна Россия, имея во главе Вас, Государь. Одно Ваше слово, и Вы к Вашим многочисленным венцам прибавите венец бессмертия.
Я была совсем изумлена, когда мне всё это высказали. На моё возражение: «Что могу я?» — мне отвечали: «Теперь дипломатическим путем это невозможно, поэтому доведите вы до сведения русского Царя наш разговор, и тогда стоит лишь сильнейшему из властителей, непобежденному сказать слово, и, конечно, ему пойдут всячески навстречу».
Я спросила: «А Дарданеллы?» Тут тоже сказали: «Стоит русскому Царю пожелать, проход будет свободен».
Соколов лихорадочно пожирал строчки. Впервые он столь близко соприкоснулся с большой политикой, с возможностью влиять на судьбы народов. Его особое внимание привлек следующий абзац:
«Здесь, повторяю, нет не только ненависти, но настоящего враждебного чувства к России, и трое, со мной говорившие, бывали в России, её знают и любят. Тоже к Франции и к Японии нет ожесточенности, но, правда, ненависть огромная к Англии…
Конечно, если бы Вы, Государь, зная Вашу любовь к миру, желали бы через поверенное, близкое лицо убедиться в справедливости изложенного, эти трое, говорившие со мною, могли бы лично всё высказать в одном из нейтральных государств…
Вашего Императорского Величества глубоко преданная подданная Мария Васильчикова».
Соколов поднял глаза на собеседника:
— Государь, это какая Васильчикова — урождённая Олсуфьева, дочь директора Эрмитажа, фрейлина Александры Фёдоровны?
— Она самая. В какое неловкое положение эта дама поставила и меня, и всю Россию! — На лице Государя было написано страдание. — Я, Аполлинарий Николаевич, даже не знаю, каким образом сюда письмо доставлено. Эту жалкую эпистолу я мог бы бросить в камин и навсегда забыть о ней. Но… судя по некоторым признакам, письмо уже известно союзникам. И боюсь, оно им очень не понравилось.
Соколов выждал, не добавит ли ещё чего Государь, и лишь после долгой паузы почтительно, но твёрдо произнёс: