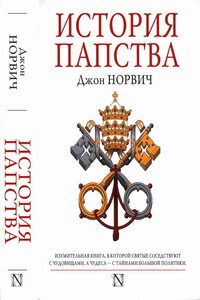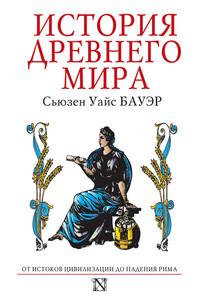Ренессанс. У истоков современности | страница 108
Люди папы неожиданно оказались не у дел. Некоторые из них успели пристроиться на службу к прелатам и князьям, находившимся в Констанце. Но Поджо оставался безработным, пассивным наблюдателем событий, к которым уже не имел никакого отношения. Он не уезжал из города, но мы не знаем, был ли он там, когда Гуса привели на собор только для того, чтобы надругаться и орать на него, как только он пытался заговорить. 6 июля 1415 года на торжественной церемонии в соборе Констанца его лишили духовного сана. На голову ему надели круглую бумажную корону высотой почти восемнадцать дюймов с изображением трех дьяволов, разрывающих человеческую душу. Затем Гуса, все еще в оковах, провели мимо костра, в котором горели его книги, и тоже сожгли. Чтобы не осталось никаких следов, палачи раздробили обугленные кости, выбросив их в Рейн.
Не имеется никаких свидетельств, по которым можно было бы судить о том, что думал сам Поджо об этих событиях, в которых он принимал определенное участие в роли папского бюрократа, вынужденного помогать функ-ционированию системы, по его же собственному мнению, насквозь извращенной и порочной. Безусловно, Поджо подверг бы себя серьезной опасности, если бы попытался высказаться по поводу казни: он все же был слугой папства, посрамленного Яном Гусом. (Через столетие Лютер, не менее страстный противник папства, отметил: «Все мы гуситы, даже не подозревая об этом».) Однако спустя несколько месяцев, когда гнев церковников обрушился на сподвижника Яна Гуса – Иеронима Пражского, также обвиненного в ереси, Поджо не смог промолчать.
Убежденный реформатор веры, имевший ученые степени Парижского, Оксфордского и Гейдельбергского университетов, Иероним был и превосходным оратором. Его речь, произнесенная в свою защиту 26 мая 1416 года, произвела огромное впечатление на Поджо. «Должен признать, – писал он другу Леонардо Бруни, – что мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-либо еще, кроме него, в отстаивании своей правоты в судебном процессе, тем более в процессе, от исхода которого зависит твоя жизнь, был так близок к образцам античного красноречия, которыми мы восхищаемся». Поджо прекрасно понимал, что рискует, но папский чиновник был все-таки и увлекающимся гуманистом:
«Изумительно было следить за подбором и игрой слов, за тем, с каким бесстрастным выражением лица, хладнокровием и убедительностью он отвечал своим противникам[248]. Его манера выражать свои мысли была настолько захватывающей, что стоит задуматься над тем, почему такой благородный и превосходный ум впал в ересь. В отношении последней у меня не может не быть сомнений. Однако эта проблема слишком далека от меня, и я не вправе выносить решения по таким важным делам. Я уступаю ее мнению тех, кто умнее меня».