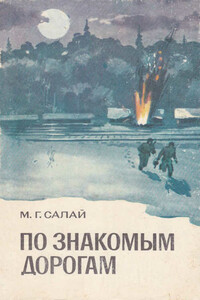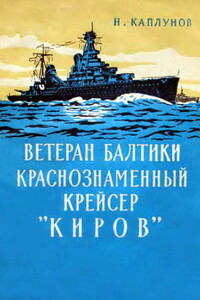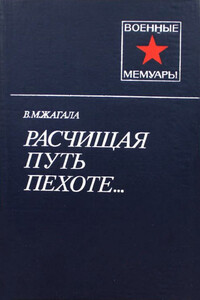Французская военная миссия в России в годы Первой мировой войны | страница 99
В контексте активности Анри де Вертамона крайне важно подчеркнуть проблему, поставленную А.А. Здановичем: Определённую условность терминов «заговор послов» и «дело Локкарта»[547], и вытекающую из неё попытку связать активность Анри де Вертамона с акциями представителей Великобритании. Французские агенты, несмотря на некоторую координацию усилий с союзниками по локальным эпизодам, действовали независимо от англичан, прежде всего, в интересах своей страны и своего сообщества. Более того, как мы видим на примере Анри де Вертамона — иной раз даже независимо от военной миссии и дипломатического аппарата Третьей республики в России. На данный момент по имеющейся информации единственным примером координации союзнических усилий можно назвать совещание в американском посольстве, где Анри де Вертамон и Сидней Рейли обменялись мнениями относительно диверсионной активности на объектах инфраструктуры. При этом существует гипотеза, что сообщение о подрыве моста у Званки было передано Рене Маршаном чекистам не по причине его чуткой натуры, но в связи с тем, что французы стремились отмежеваться от английской операции[548]. С учётом вышеизложенного причастность Анри де Вертамона к т. н. «делу Локкарта» пока представляется недоказанной.
Сотрудники французской военной Миссии занимались не только сбором актуальной военной, политической, экономической информации, снабжением контрреволюционных сил оружием и деньгами, но под видом эвакуации на родину содействовали незаконной переправке на Север добровольцев из числа сербов, поляков, чехов и др., согласившихся воевать против Советской республики[549].
Подводя итог, приведём достаточно курьёзную иллюстрацию того, как французское общество и французская пресса оценивала деятельность собственной страны в России: газета «Le Temps» от 26 ноября 1917 сообщала: «Газета скорбит, что на Кэ дОрсе не могли иметь в России своих «специалистов», живущих там и изучающих русские дела с начала революции снабжающих французское правительство постоянными и точными сведениями и могущих располагая налаженными местными связями, помочь в проведении активной политики»[550]. Несмотря на то, что французское военное представительство не испытывало недостатков в квалифицированных специалистах, их деятельность сложно назвать эффективной. Главным образом потому, что идея продолжения войны пользовалась в России весьма ограниченной поддержкой. Таким образом, у французов систематически получалось довольно легко привлекать на свою сторону русских, недовольных большевистским режимом и «позорным миром». Многие из них оказывались активны и предприимчивы, но переоценивали число своих возможных единомышленников и невольно вводили в заблуждение своих визави из Третьей Республики, которые были рады принимать желаемое за действительное и опрометчиво рассчитывать на «патриотов, готовых выполнять союзнический долг». Можно отметить, что, несмотря на самую высокую активность по вовлечению в антисоветскую деятельность, все попытки «контрпереворота» в столице или «провинциальных мятежей» в центральных губерниях оказались локализованы и подавлены, а проявления индивидуального террора против лидеров большевиков вызвали жестокий и масштабный ответ. Что характерно, неудача постигла французов как раз в тех частях страны, где они располагали наилучшими оперативными позициями и многочисленным персоналом.