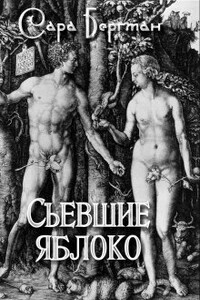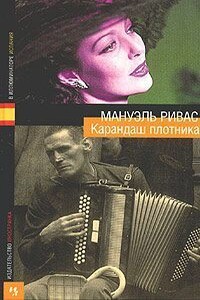Саалама, руси | страница 27
Отец умер. Открыв письмо, девушка несколько минут молча смотрела на него, пытаясь собраться с мыслями. И что-то почувствовать. Ведь у нее были хорошие родители, они любили ее, растили. И она по-своему их тоже любила. Наверное, в этот момент надо было заплакать. Она собралась с духом, чтобы перечитать еще раз, и в это мгновение ее одернул окрик:
— Ливанская! Ливанская, бегом, вы очень нужны!
Она подхватилась, торопливо поставила чашку с той безвкусной бурдой, которая называлась здесь кофе, и выбежала на улицу.
Слишком много работы, операций и пациентов. Перевязки, кровь, кости, кишки. Два шага от госпиталя до барака, жесткая койка, несколько часов глубокого обморочного сна. И снова — скальпель, пила, игла, ретрактор[1]. Гной, затрудненное заживление, гангрена.
Снова подумала о смерти отца она только через несколько дней. Кто-то (скорее всего, аккуратная Ясмина) убрал оставленное второпях письмо со стола на полку. Ливанской пришлось долго искать его по комнате, прежде чем на глаза попался одинокий смятый лист с коричневым кругом — следом от кофейной чашки. Но из всех эмоций где-то на границе сознания появился только стыд. Ведь ей часто снилась Москва, городская больница, тот парень-школьник. Но не Польша и не родители.
24 ноября 2008 года. Понедельник. Сомали. Деревня. 04:30.
И все же хиджаб пригодился. Хотя прошло больше недели, прежде чем у нее появился шанс позвонить матери. Телефон был только в городе, попасть в это небольшое поселение без машины оказалось невозможно, а в деревне транспорта не держали.
В город ездил только Муки. Раз в две-три недели за ним прибывал старенький внедорожник, и мужчина отправлялся за провизией. По его словам, при определенном везении из города можно было дозвониться в Польшу. Хиджаб стал обязательным условием, если Ливанская хотела поехать, и она надела плотный льняной балахон прямо поверх брюк, что принесло дополнительные неудобства — день обещал быть жарким.
Встали даже раньше обычного. Муки объяснил, что дорога плохая, добираться долго, а рынок начинает свою работу на рассвете. Поэтому уже в половине пятого джип с бодрым улыбающимся сомалийцем стоял у дверей спального барака.
Это был УАЗик — самый настоящий старый советский УАЗик, еще из тех, у которых вместо второго ряда сидений квадратный кузов с двумя скамейками по бокам. В кабине с чисто сомалийской находчивостью на давно сгнившие передние сиденья была приколочена доска. Когда врачи забрались внутрь, сомалиец расцвел большезубой улыбкой, радостно всплеснул руками и, что-то громко выкрикивая, схватился за рычаг. Он лупил тощими длинными ногами по педалям, будто исполнял какой-то дикий национальный танец, ритуал этот был изучен им до мелочей, и через пару минут древний движок чихнул, крякнул и разразился душераздирающим воем. УАЗик с шиком вылетел из деревни на немыслимой для этих мест скорости в сорок километров в час, подпрыгивая на рытвинах и поднимая огромный столб пыли.