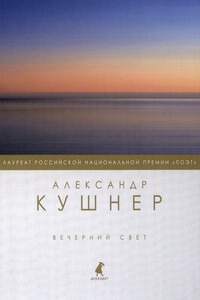Избранное | страница 50
Я сижу у окна лицом к конурке, рисую картинки – «Рожицы кривые».
Когда я в первый раз вошел во двор, я забоялся Жучка, а Жучок залаял, меня забоялся. Теперь мы приятели, я Жучка рисую. Чуть проглянуло и опять дождя надувает.
– Плохо, нехорошо стало, – говорит Василиса. А кто много претерпел? Народ. Бог милосердный, да много прогневали. Жалко народ, ни за что так пропадает. Лучше уж совсем убить, а чтобы пустить доживать: рыло сворочено, нос вырванный. И для чего это война? Людей бить? У нас сказывают, не пулями, опилками стреляют, а у н е г о не то: снаряды хорошие, стеклами порят, газом душат. А нам нельзя: мы православные. Ему позволено душить. Так и волов не бьют. Земля разрывается: сверху бьют. Это не воевать, а бить. А простой народ, за что он пропадает? Кто будет отвечать? Цари собрали народ и давай душить. На смех ли? От ума ли? Только прицепились к жизни, выбрались из копчушек, а их на войну. «На том свете все ангелами станут!» – попы читают.
Василиса вышла к себе в свою комнатенку, поправила лампадку: киот у нее золотой с золотым виноградом. Раскалилась, не может стать: какую страду ей надо нести! Сына ее убили – забыть нелегко.
– Скоро, знать, свету конец, – говорит Василиса, – скоро все перевернется. Жулик пошел, вор на воре, озорнее стали. Убить человека ничего не стоит. Сердитые от горя: у кого убили, у кого урод. И так отступлены от Бога, а тут совсем пропад. Для чего это война? Жизнь рассыпается, жить нехорошо стало. Не до Бога. Люди озлились, стали гордые, злые. Прежде придешь в лавку: «Пожалуйста – пожалуйста!» А теперь: «Поди вон!»
В Кречетниках ударили ко всенощной. Дождик холодный, не ильинский. Спрятался Жучок в свою конурку. Зажечь лампу, что ли?
– Ни мука, ни зола, – слышу голос из кухни: Василиса сама с собой – все это кара.
После пасмурных дней, осенних, закрывших крылатый Бештау и дымящийся отравленный Машук, после тоскливых дней туманных, сровнявших с дикой неоглядной степью белоснежный кряж с далеким крайним Эльбрусом, среди ночи я увидел лермонтовские звезды.
Слов я не помню, кому и о чем, я не помню, и какой молитвой молился, видел я звезды и так близко до боли, и так кровно, как свое, всегда со мною, и память, широкую, как звезды, от звезды к звезде и по звездам сквозь туманы путь —
сквозь туман кремнистый путь—
После ночи я поднялся рано. Белый, белоснежный кряж с Эльбрусом, ясный, леденил утро. Бештау, весь – черный, распахнув летучие крылья, смотрел затаенно в своей демонской первородной тоске. И только отравленный Машу к дымился.