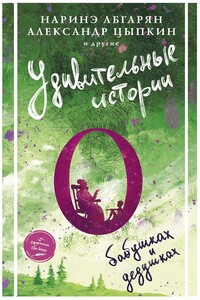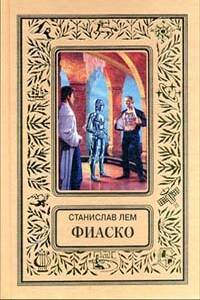Современные польские повести | страница 33
Поэтому появление единомышленников после Сталинграда не только обрадовало тем, что он уже не одинок, но и вызывало опасения. Тогда же всплыло и это табу — присяга на верность. Возмущал, по меньшей мере коробил, прагматизм подобной декларации. Убрать Гитлера необходимо не потому, что становилось преступным все, чего бы он ни коснулся: политика, философия, повседневное управление страной, а потому, что он ведет Германию к катастрофе. Налицо было не только моральное убожество приверженцев такого рода точки зрения, но и логический абсурд, заколдованный круг. Свергнуть Гитлера за то, что он толкал Германию в пропасть, невозможно до тех пор, пока это не станет очевидным для большинства. Но тогда уже не будет козырей, чтобы торговаться с победителями.
Он проклинал всю эту ложь. Присяга на верность — идеальное убежище для перестраховщиков. Вот он швырнул им этот труп. Сумеют ли они понять, что уже поздно, очень поздно, может быть, слишком поздно?
Его вдруг охватила тревога. А вдруг кто-то, отсутствовавший тогда в «волчьем логове» и, следовательно, оставшийся в живых, неожиданно проявит расторопность, а вдруг не удастся блокировать связь с Берлином вопреки клятвенным заверениям Фельгибеля? А если начнут поступать приказы и лживые утверждения, что Сатана жив? Все решает время. Кто выиграет первые несколько часов: «волчье логово» или Бендлерштрассе?
Он взглянул на часы. Половина третьего. Окликнул адъютанта:
— Узнайте, когда будем в Берлине. Пусть запросят аэродром, что творится в мире.
Адъютант прошел в кабину пилота и тотчас возвратился:
— Еще около часа лету. На борту нет радио.
У Штауффенберга отлегло от сердца. Впереди еще час законного отпуска. Внезапно он понял, что Свершение, представлявшееся крутой вершиной его бытия, по существу знаменует только неизбежное начало неустанного, изнурительного аврала. То, что уже несколько часов его обременяют стальные доспехи ответственности. И что час лету до Берлина без радиосвязи — последний свободный час… Он не знал, как докончить. Напрашивалось драматичное: час жизни. Это претило, он поправился: час отпуска. И тотчас же пришло обоснование: после Свершения этот мир, разомлевший от жары, проплывающий где-то там, далеко внизу, уже не тот мир, оставленный им несколько часов назад в «волчьем логове»; запуган он или восхищен, восторгается ли неожиданной новостью или полон бешеной жажды отмщения — неизвестно, но так или иначе, это другой мир, и он, Штауффенберг, преобразил его; иными словами, достаточно ступить на землю, и уже не найдется для себя ни единой минуты; этот последний час полета — последний, которым он может распоряжаться по собственному усмотрению.