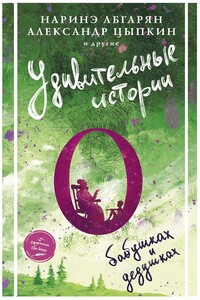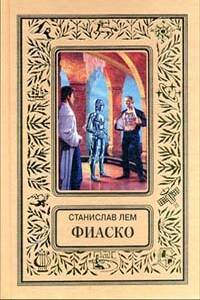Современные польские повести | страница 32
Снова то же самое: все упиралось в труп. Воспитанный в правилах личной скромности, Штауффенберг отгонял мысль, логически вытекавшую из предыдущей: вся суть в нем, в том, кто организовал взрыв, вызволил щепетильные души господ а-ля фон Клюге из оков присяги на верность, скрепленной четвертью миллиона марок.
Он отбивался от мыслей о своем приобщении к истории. Но демон гордости атаковал уже не в лоб — обходил с флангов. Нашептывал: поздновато, поздновато. А может, вообще слишком поздно? Теперь разговаривать с англосаксами весьма затруднительно, не то что год назад, повторяли иные вслед за Гизевиусом. Год назад русские стояли под Орлом. На Западе только готовилась высадка на Сицилию. Год назад еще имелись кое-какие козыри для возможных негоциаций, было из-за чего торговаться. И снова сжимается сердце, снова он судорожно, глубоко втягивает в себя пахнущий аптекой воздух. Но год назад некоторые фельдмаршалы да генерал-полковники способны были лишь трусливо отсиживаться в кустах. А теперь — этот взрыв. Так или иначе, он выдал им этого покойника, следовательно, должен заставить их повиноваться.
Когда привычная скромность вновь взяла верх, поставив под сомнение беспрестанное выпячивание собственной персоны на первый план, неожиданно возникла мысль: раз сделал, должен довести все до конца. На тебе лежит ответственность, следует присмотреть за генералами — чтобы те повиновались, выполняли свои обязанности и не слишком-то грызлись между собой.
Им овладело нетерпение. Он смотрел вниз. Озера миновали. Кое-где виднелись леса, темно-красные крыши поселков. Год назад все это еще можно было спасти.
Уже год назад он отдавал себе отчет в том, что крах неизбежен. В различных разобщенных кругах немецких интеллектуалов начали одновременно зарождаться одни и те же расчеты, надежды и опасения. Словно семена поседевших от зрелости одуванчиков, разлетались эти мысли по всем уголкам Германии, тут и там пускали ростки, независимо друг от друга, но в прямой зависимости от мощных порывов студеного сталинградского урагана.
А с ним получилось совсем иначе, раньше и по совершенно особым причинам. Возможно, тяжелое ранение, а потом долгие скитания по госпиталям пробудили в нем надежду слабых — религиозность. Во всяком случае, еще в тот период, когда гитлеризм блистал победами, Штауффенберг ощущал свою обособленность от всеобщей радости, зазнайства и хвастовства. Любой акт дискриминации иных народов, любая несправедливость, причиненное другим горе пробуждали в нем отвращение, даже страх — далекий, смутный.