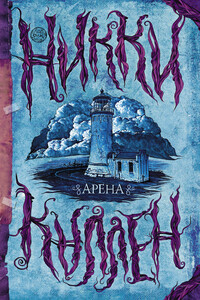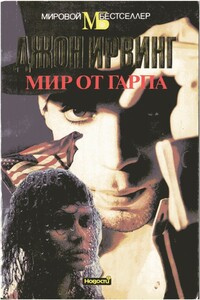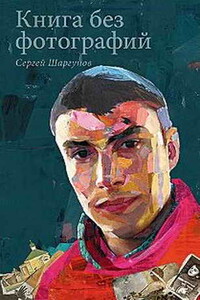, и вдруг вот эта с детства знакомая сказочка его так, знаете… ну, про то, что ты сын своего народа, что это у тебя где-то вот тут, в основании черепа (показывает пальцем), и вот он, профессор, теперь думает… «Ху-ху-хуюмает!» – вдруг сказал низкий, тяжело заикающийся голос где-то в животе у Бениэля Ермиягу, и что-то такое, видимо, сделалось с его лицом, что профессор немедленно попытался вернуться к анамнезу («Х-х-х-хуям-мнезу!»), но Бениэль Ермиягу уже шел к двери, бежал; выбежал, пробежал через что-то и еще что-то, побежал вверх по какой-то темной лестнице, потом вниз по какой-то очень светлой лестнице (пожарной, но это понимаем мы, а он не сообразил, ему было не до того), остановился на крошечной и гулкой железной площадке, боль от всей этой беготни была дикая, он сел на корточки и вывернулся влево (так иногда болело меньше), и закрыл глаза, и представил себе, что вот перед ним этот сраный профессор, и вот этот сраный вопрос сраного профессора, и тут же у Бениэля Ермиягу гукнуло в голове тяжелым, давящимся согласным басом, наплывающим из живота – через горло – под язык: «Т-т-т-тоже м-м-м-не М-м-мордехай сраный! П-п-поклонится – не разв-в-валится!» – значит, ответ «да», значит, возвращаться в религию, а дети – это ничего, попинают и простят. Бениэлю Ермиягу пойти бы с этим к профессору, но он не пошел, ему хотелось оставить это знание себе, только себе, и на следующий день он попросил Тали дать ему десять, нет, двенадцать наиболее эдаких писем из лички и на все ответил прямо собственными рученьками («Х-х-хуизменяет! Т-т-ы, дура, д-д-думала, что „открытые от-т-т-т-ношения“ – это теб-б-бе, блядище, м-м-м-можно, а он, з-з-значит, „из-з-зменяет“?..»): «Если вы поймете, что ваши отношения с партнером строятся на взаимном блаблаблаблаблаблабла…» – а еще он в тот день потребовал перенести съемки на сутки вперед, это значило всем выесть мозг и всю студию поставить раком, но ему было наплевать, он пообещал всем премиальные и выдал, и от беготни и нагрузки месячный запас трамадола вышел у него за две недели, но в аптеке ему продали на два месяца вперед, и ему было немножко наплевать, как он это потом разрулит (как-нибудь разрулит), и он пропустил онкомаркеры раз, потом пропустил онкомаркеры два, потом Ерема дал ему пиздюлей, и он пошел и сдал онкомаркеры – и все.
Оперировали быстро, буквально через три дня после МРТ, потом Бениэль Ермиягу лежал в той же частной палате, что и в первый раз, и все уже было ему понятно. Во время первого же обхода он, обезболенный до кристальной нежности и совершенно пустой, с заклеенной в трех местах спиной, спросил врача, куда оно делось – ну, куда их девают после удаления: хранят, выбрасывают? Врач, не впервые, видимо, слышавший этот вопрос, сказал, что на этот раз опухоль была мааааленькая, потому что он, Бениэль Ермиягу, молодец, исправно сдавал онкомаркеры; что есть гистологические стекла, их некоторое время хранят. Бениэль Ермиягу попросил посмотреть. Врач, не понявший вопроса, сказал, что неспециалисту там ничего непонятно, но ради него, Бениэля Ермиягу, он может организовать экскурсию в лабораторию, и там через микроскоп… Бениэль Ермиягу сказал, что ему не нужно через микроскоп, он хочет посмотреть просто так. Врач помялся, но согласился, пациент-то был именитый, и медсестра, которая принесла ему стекла, попыталась сказать что-то – уж такое спасибо, такое спасибо, она взяла и съездила, и мальчик… Бениэль Ермиягу просто взял и заткнул пальцами уши, медсестра стала белого цвета, положила маленький лабораторный пакетик со стеклами на тумбочку и вышла. Он вытащил приплющенные друг к другу лабораторные стекла с чем-то бурым и желтым и совершенно не понял, зачем попросил их принести. Бениэль Ермиягу сунул стекла обратно в пакет. В коридоре одна медсестра, хныча, спрашивала у другой, что ей теперь делать, рассказать что-то там какому-то «ему» или не рассказать, и Бениэль Ермиягу при всем своем желании не мог помочь ей совершенно, абсолютно ничем.