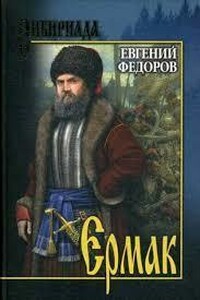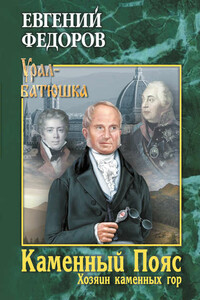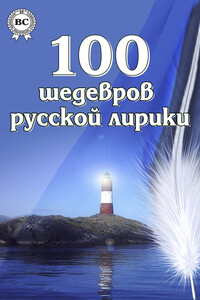Ровесники: сборник содружества писателей революции "Перевал". Сборник № 2 | страница 84
— Вот и я!
И, отгоняя подозрительно обнюхивающих собак, ворчал:
— Отойдите, дьяволы! Вот не обожаю эту скотинину. Гвалт от нее один.
Дед возражал:
— Не говори, брат. Собака, она чует далеко.
А Ефим, поднося черную голову к самому лицу, бурчал:
— Толкуй! Она только вспугивает, а не помогает. Я намедни, помнишь, — Кузю Рогоча как принакрыл, прямо за машинку. Слышу — жжи-жжи-жжи! А темь, по́ снегу дальше пяти шагов, хоть глаз выколи. Я — стороной, стороной, по кустам. Гляжу, — вот он. Ну и притяпал. А собака, — она бы вавакнула, — он бы к едреной махонькой нара́з! Лошадно у него — прямо птицы… А ты говоришь…
И Ефим, натужливо закашлявшись, смеялся.
Был он большой, сильный, но отбившийся от работы мужик. Дед любил его за простоту и за недовольство «проклятой заводиной», порядками.
И теперь, слыша, как он натуживался простуженной грудью, ему стало жаль этого большого, расшатанного неудачами человека.
— Здорово у тебя в грудях-то квохчет…
Ефим, разогнувшись, сверкнул глазами, прохрипел:
— Простыл я с эстим лесом… Завяз как-то по недели в воду. Вот и дохаю…
— Живешь ты еще плохо.
Качнулся Ефим, хлюпнув лаптями.
— Какая тут жисть, сам понимай. Как медведь ровно в берлуге прею… Один…
Шли до угла леса вместе. Подозрительно нюхали ночную свежесть собаки, белея в сумраке. Небо нависало на лес, сплошь черное, с редкими тусклыми звездами.
— Скоро должно полночь…
И Ефим зевнул, хрястнув челюстями.
— Думал, понимаешь, из лесу уйтить. Ничего не получается.
— Уйтить?
— Жалованья очень дешевая. На лапти, да на керосин — только и стает. А так, — хлебушек батюшку только и жустришь, как кролик…
И глядя, в сторону, он ронял под хлюпающие лапти продуманные в одинокой сторожке слова:
— Некуда… В городах тоже трудно стало. А на деревне, — прокисай она вдребезги!
Дед о своем вспомнил.
— На деревне теперь, друг, будто новое заваривается.
— Слыхал я… Мне третьево-дни Микишка Карасев сказывал.
На общее поле думают выйти, что ли…
— Думают.
— Только это еще — как сказать! Народ-то уж очень вогальный — всяк свое… А так оно што ж, — нашему брату, окроме хорошо, ничего сказать нельзя.
У угла стали. На фоне неба Ефим виднелся большой кучей, осевшей на дубину. Шапка на затылок. Цигарка, разгораясь, клала красные пятна на скуластое лицо, на широкий нос, рыжие усы. Задыхаясь дымом, он толковал:
— А уж там твово Леньку кроют, — по первое число. Больше Маняшины — жеребцы, ребята. Жисти, говорят, лишим.
— Ну, это еще бабка на-двое сказала.