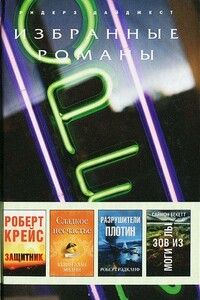Зелёное, красное, зелёное... | страница 9
…Сначала мне снилась мама. Она гладила меня по щеке и говорила: «Боже мой, такой большой мальчик, и боится собаки…» Она качала головой укоризненно, и мне, как всегда в детстве, становилось от этого стыдно; что-то стеснилось в груди, защекотало в носу, и было почему-то жалко себя — страх, испытанный от ощущения своей беспомощности и незащищенности, не проходил. Мама продолжала гладить меня по щеке и по носу, было щекотно и странно; и я подумал во сне, что причиной этой странности было то, что мама никогда не ласкала меня, когда была недовольна мной. И вообще она не любила «лизаться», как другие матери. Я очень любил ее. В ней было все — и море, и небо, и тепло. А разве море, небо, солнце только ласкают? Нет, они могут хмуриться, гневаться, жечь. Но они остаются морем, небом и солнцем. И никто не может заменить их. Я знал это давно, но сейчас, во сне, мне было не только щекотно от прикосновений маминых пальцев — мне казалось, что именно они спасут меня, эти тихие касания, похожие на дуновение ветра, когда лежишь на песке, разомлев от моря и солнца, щекою на песке, а он струится под ладонью, покалывает тоненькими иголками в шею, щекочет щеку, поднимаясь как бы на свои песчиные цыпочки…
Собака была черная, с оскаленными клыками, один из которых, справа вверху, как бы отделялся от розово-черной десны, с нее стекала слюна. Мама куда-то исчезла, я только слышал ее голос, далекий и невнятный, заглушаемый лаем черной собаки. А та приближалась, голова ее с оскаленной пастью росла, и вдруг из пасти метнулся тугой сноп огня, и я услышал пулеметную очередь: дуду-ду-ду-дудуду… «Собака немецкая… немецкая овчарка…» — сказал кто-то во мне, но одновременно и вне меня, потому что слова отдавались, словно эхо: «…арка, арка, арка…» Собака подошла ко мне, а я лежал и не мог встать, как ни напрягался, — тело было ватным, бессильным. Теперь я увидел, что собака была очень большая. Она потопталась около меня и вдруг села на мою ногу. Я закричал и проснулся.
Боль в правой ноге пульсировала уже в бедре, глухо отдаваясь в поясницу. Солнце окрасило края дюн; рыбачья хижина в зарослях олив была освещена его лучами. Собака — худая как скелет — совершенно осипла от лая, она едва слышно свистела и подвывала. Только теперь я понял, что никого в хижине не было, собаку забыли отвязать, и она погибала, как и я, на пустынном берегу.
Я оглянулся на самолет: он был на две трети под водой, снаружи торчала лишь левая плоскость и самая верхушка винта — вода прибывала.