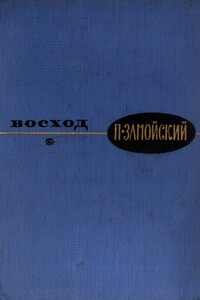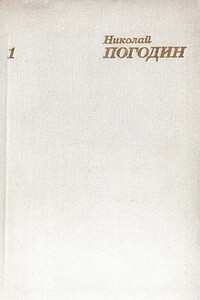Самое длинное мгновение | страница 28
А рядом с едой сидел Жора, держа в руках газету, в своей огромной каракулевой шапке, в наглухо застегнутом черном френче, широченных галифе и в белых валенках.
— Ну? Ну? Ну? — уже криком спросил он.
— Похоже. Хорошо, по-моему.
— Я ей здорово заплатил, — он громко, с облегчением — вздохнул, выпил водки, занюхал рукавом и воскликнул: — Вот каким я был! На свободу меня выпустят уже после войны. Буду вспоминать, как я жил, буду любоваться вот этим портретом. — Он отпил водку прямо из горлышка, поперхнулся, закашлялся, из глаз его брызнули слезы. — Буду вспоминать, как воровал водку, хлеб, валенки, телогрейки, тушенку, красивых женщин! И все равно… да, меня не переставали презирать. Ни на секунду. Меня обнимали, целовали и — сплевывали… Вот только сейчас меня оценят серьезно — упрячут за решетку.
Вернувшись к себе, я сел перед печкой. Я чувствовал, что во мне что-то сгорало без остатка, но что именно, еще не понимал. И что-то возникало на месте того, сгоревшего…
Больше я не видел ни Бэлы, ни Жоры. Его арестовали на другой день, когда меня не было дома. Все его имущество, кроме портрета, конфисковали.
Портрет некоторое время стоял в коридоре, я любовался нарисованной на нем едой. Потом он исчез. Художница выполнила на нем один из своих заказов.
Любовная драма у нас в бараке на Промплощадке во время войны
Он появился у нас в бараке к вечеру, но уже на другой день и до самой своей несуразной, а для него вполне закономерной погибели был на нефтепромысле известной персоной. И забыли о нем скоро, и многие женщины унесли в себе память о нем, верно, навсегда. Не забывали его и некоторые мужчины — с презрительно-завистливым уважением вспоминали долго.
За большим барачным окном зло и давно уже вьюжил декабрь, а на парне была промасленная телогрейка с одной пуговицей, рваные ватные штаны, кирзовые стоптанные сапоги и по брови грязная пилотка.
Плотно и старательно, даже как-то благоговейно притянув за собой дверь, парень постоял у порога, щурясь от тепла и света, осмотрелся и стылым голосом выговорил:
— Хорошо у нас…
Тетя Лида, высокая, прямая, для военного времени — очень полная сорокалетняя женщина, совмещающая обязанности уборщицы и воспитательницы, — вернее, она была уборщицей, а по штату числилась воспитательницей, — вышла из своего закутка, огороженного досками, спросила недружелюбно, настороженно и заинтересованно:
— Откудова и зачем сюда пожаловал?
Он взглянул на нее — сразу на всю, потом ненадолго задержал внимательный взгляд на ее груди, на голых белых ногах, чуть подольше — в глаза ей посмотрел; растянул оттаявшие большие, сильные, немного вывороченные губы в улыбку, наглую и добрую, подмигнул и ответствовал: